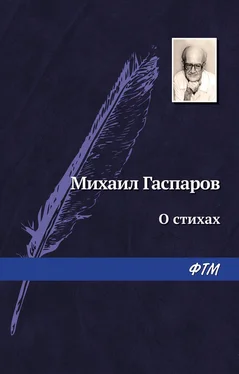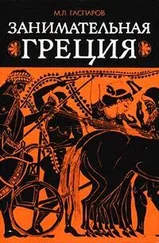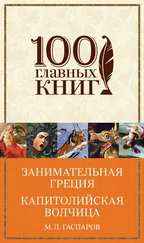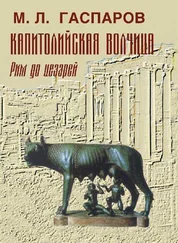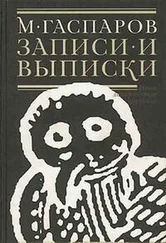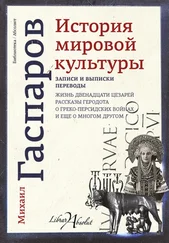Р. S. Статья была написана из понятного желания защитить Ксенофана от высокомерия нынешних пушкинистов, а также из интереса простым анализом текста выйти на достаточно широкое сопостав ление двух культур, двух картин мира. Ключевые слова стихотворения: «правду блюсти: ведь оно ж и легче» перекликаются, ни много ни мало, с «Евгением Онегиным»: простое житейское поведение порядочного человека на фоне литературных романтических ожиданий может быть не только этическим, но и эстетическим фактом. (Подробнее см. статью ««Евгений Онегин» и, Домик в Коломне»»). Может быть, эпиграф из Неккера к объяснению Онегина с Татьяной – «La morale est dans la nature des choses» – не столь ироничен, как считается.
«Переводчик» Д. С. Усова
С русского на русский
Переводчик
Недвижный вечер с книгою в руках,
И ход часов так непохож на бегство.
Передо мною в четырех строках
Расположенье подлинного текста:
«В час сумерек звучнее тишина,
И город перед ночью затихает.
Глядится в окна полная луна,
Но мне она из зеркала сияет».
От этих строк протягиваю нить;
Они даны – не уже и не шире:
Я не могу их прямо повторить,
Но все-таки их будет лишь четыре:
«В вечерний час яснее каждый звук,
И затихает в городе движенье.
Передо мной – не лунный полный круг,
А в зеркале его отображенье».
15 февраля 1928
Автор этого стихотворения – Дмитрий Сергеевич Усов (1896–1944), московский филолог, поэт и переводчик. Начинал он в кругу авторов, связанных с альманахом «Жатва» (1911–1916), печатался очень мало, переводил преимущественно с немецкого и на немецкий, был членом секции по изучению художественного перевода в ГАХН. Был добр и кроток: «скоро звезды отражать будет», писал о нем в письме Вс. Рождественский. В 1935 г. был арестован по «делу о немецко-русском словаре», работал на Беломоре, умер в Ташкенте («ничего не боящийся и всем напуганный», по выражению Н. Я. Мандельштам). Архив его почти не сохранился. Наиболее обширное собрание его стихов хранится в ОР РГБ, ф. 218, к. 1071, ед. 24. Здесь записано и стихотворение «Переводчик» (л. 13 об.). Публикуется оно впервые.
Стихотворение изображает процесс перевода: вторая строфа пересказывается в четвертой близкими, но не тождественными словами, как бы в переводе с русского на русский. Такие парафрастические стихи (не только двукратные, но и многократные) были знакомы поздней античной поэзии; Усов их знал по греческой «Палатинской антологии», из которой сам сделал немало переводов. Русской поэтической традиции такие разработки чужды. Ближе всего к ним подходят, пожалуй, «двойчатки» и «тройчатки» в стихах Мандельштама; большинство их написано позднее, чем усовское стихотворение, но первый образец их – «Соломинка» – относится еще к 1916 г. Любопытно, что в «Соломинке» тоже присутствует образ зеркала, как бы мотивирующий повторение (и притом в обратном, «зеркальном» порядке образов).
Чем отличаются друг от друга вторая строфа Усова и четвертая строфа? Можно ли быть уверенным, что именно первая из них является оригиналом, а вторая переводом, а не наоборот? Может быть, их можно переставить? Что теряет и что привносит переводчик?
Количественно – немного. Коэффициент точности «перевода» (доля сохраненных знаменательных слов от общего числа знаменательных слов оригинала) – 38 %, а если считать, что «звучнее» = «звук» и «луна» – «лунный», то и 54 %. Коэффициент вольности (доля привнесенных слов от общего числа слов перевода) – 33 %. Это близко к наиболее частым показателям точности и вольности в настоящих русских стихотворных переводах XIX–XX вв. (по крайней мере, по обследованному кругу их образцов – пока еще не очень широкому). Интереснее не количественная, а качественная, структурная перестройка текста.
Самое заметное место в стихотворной строке – конец ее: там – рифма, там – усиленное ударение. В первой паре строк «оригинала» рифмующие слова – «тишина», «затихает», в «переводе» – «звук», «движенье», вместо покоя – непокой. Во второй паре строк в «оригинале» – «луна», «сияет», в «переводе» – «круг», «отображенье», вместо реальности – подобие. Первая пара строк дает фон, вторая – суть перевода. В «оригинале» фон стушеван, а сам перевод ярок; в «переводе» фон активен, а перевод выцвел.
Посмотрим внимательнее на деформацию образов фона. «В час сумерек» превратилось в «В вечерний час»: вместо зрительного образа – отвлеченное, понятийное обозначение времени. (Слово «сумерки» – это полусвет-полутьма, безразлично, утренняя или вечерняя; а слово «вечер» обозначает определенный отрезок суток, независимо от того, ясно в воздухе или туманно.)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу