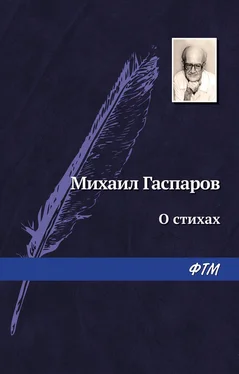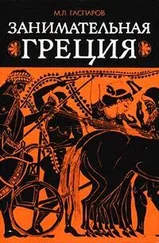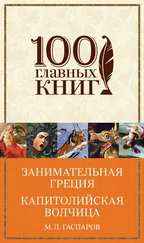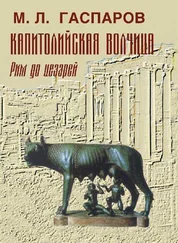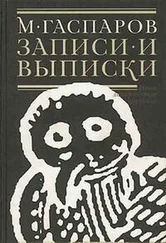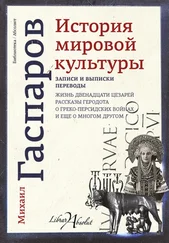Так композиция слов и звуков дополняет композицию образов и эмоций. Это – ответ на вопрос, который, может быть, возник у кого-нибудь из читателей: если есть только четыре вида композиции, не считая нейтрального, то откуда же берется такое разнообразие неповторимо индивидуальных по строению стихотворений? В самом деле, стихов с композицией образного ряда ааА (как у нас) можно насчитать множество; но чтобы композиция всех остальных рядов аккомпанировала этому образному ряду в точности так, как у нас, – вероятность этого ничтожна. Элементов, из которых слагается композиция стихотворения, мало, но сочетаний их – бесконечно много; отсюда – для читателя возможность наслаждаться бесконечным разнообразием живой поэзии, а для ученого возможность педантично ее анализировать.
Но мы слишком задержались на «Это утро, радость эта…» – а ведь это не самое известное и, конечно, не самое сложное из «безглагольных» стихотворений Фета. Рассмотрим наиболее знаменитое: «Шепот, робкое дыханье…». Оно сложнее: в его основе не одно движение «от широкого к узкому», «от внешнего к внутреннему», а чередование нескольких таких сужений и расширений, складывающееся в ощутимый, но зыбкий ритм. (И само стихотворение ведь говорит о вещах гораздо более зыбких, чем картина ясной зимы или радостной весны.)
Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..
Проследим прежде всего смену расширений и сужений нашего поля зрения. Первая строфа – перед нами расширение: сперва «шепот» и «дыханье», то есть что-то слышимое совсем рядом; потом – «соловей» и «ручей», то есть что-то слышимое и видимое с некоторого отдаления. Иными словами, сперва в нашем поле зрения (точнее, в поле слуха) только герои, затем – ближнее их окружение. Вторая строфа – перед нами сужение: сперва «свет», «тени», «тени без конца», то есть что-то внешнее, световая атмосфера лунной ночи; потом – «милое лицо», на котором отражается эта смена света и теней, то есть взгляд переводится с дальнего на ближнее. Иными словами, сперва перед нами окружение, затем – только героиня. И, наконец, третья строфа – перед нами сперва сужение, потом расширение: «в дымных тучках пурпур розы» – это, по-видимому, рассветающее небо, «отблеск янтаря» – отражение его в ручье (?), в поле зрения широкий мир (даже более широкий, чем тот, который охватывался «соловьем» и «ручьем»); «и лобзания, и слезы» – в поле зрения опять только герои; «и заря, заря!» – опять широкий мир, на этот раз – самый широкий, охватывающий разом и зарю в небе, и зарю в ручье (и зарю в душе? – об этом дальше). На этом пределе широты стихотворение кончается. Можно сказать, что образный его ритм состоит из большого движения «расширение – сужение» («шепот» – «соловей, ручей, свет и тени» – «милое лицо») и малого противодвижения «сужение – расширение» («пурпур, отблеск» – «лобзания и слезы» – «заря!»). Большое движение занимает две строфы, малое (но гораздо более широкое) противодвижение одну: ритм убыстряется к концу стихотворения.
Теперь проследим смену чувственного заполнения этого расширяющегося и сужающегося поля зрения. Мы увидим, что здесь последовательность гораздо более прямая: от звука – к свету и затем – к цвету. Первая строфа: в начале перед нами звук (сперва членораздельный «шепот», потом нечленораздельно-зыбкое «дыханье»), в конце – свет (сперва отчетливое «серебро», потом неотчетливо-зыбкое «колыханье»). Вторая строфа: в начале перед нами «свет» и «тени», в конце – «измененья» (оба конца строф подчеркивают движение, зыбкость). Третья строфа: «дымные тучки», «пурпур розы», «отблеск янтаря» – от дымчатого цвета к розовому и затем к янтарному, цвет становится все ярче, все насыщенней, все менее зыбок: мотива колебания, переменчивости здесь нет, наоборот, повторение слова «заря» подчеркивает, пожалуй, твердость и уверенность. Так в ритмически расширяющихся и сужающихся границах стихотворного пространства сменяют друг друга все более ощутимые – неуверенный звук, неуверенный свет и уверенный цвет.
Наконец, проследим смену эмоционального насыщения этого пространства: насколько оно пережито, интериоризовано, насколько в нем присутствует человек. И мы увидим, что здесь последовательность еще более прямая: от эмоции наблюдаемой – к эмоции пассивно переживаемой – и к эмоции, активно проявляемой. В первой строфе дыханье – «робкое»: это эмоция, но эмоция героини, герой ее отмечает, но не переживает сам. Во второй строфе лицо – «милое», а изменения его – «волшебные»: это собственная эмоция героя, являющаяся при взгляде на героиню. В третьей строфе «лобзания и слезы» – это уже не взгляд, а действие, и в действии этом чувства любовников, до сих пор представленные лишь порознь, сливаются. (В ранней редакции первая строка читалась «Шепот сердца, уст дыханье…» – очевидно, «шепот сердца» могло быть сказано скорее о себе, чем о подруге, так что там еще отчетливее первая строфа говорила о герое, вторая – о героине, а третья – о них вместе.) От слышимого и зримого к действенному, от прилагательных к существительным – так выражается в стихотворении нарастающая полнота страсти.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу