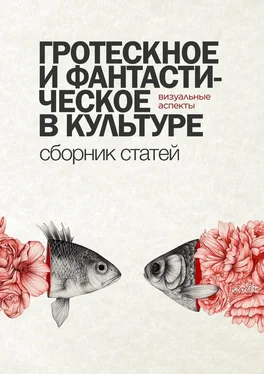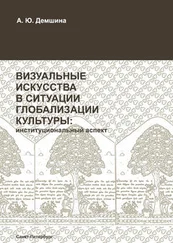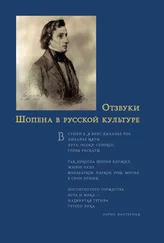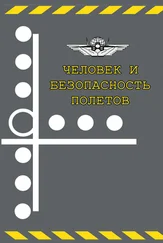Обратимся к древнему мифологическому образу Тартара. Известно, что это пространство, находящееся в самой глубине космоса, ниже Аида, и на столько отстоит от него, на сколько земля от неба (если бросить медную наковальню с неба на землю, то она долетит до земли за девять дней; за это же время она долетит от земли до Тартара). Такой «зримый» образ мироустройства, порождаемый воображением древнего человека, является смыслополагающим: одинаковые расстояния между разными участками мира свидетельствуют о его предельном единообразии, космичности, упорядоченности, не допускающей ничего, что бы выпадало из этой стройной соразмерности всего со всем.
Смысловая «законная» целесообразность сцепления разнородных элементов в единый образ открывает широкие просторы для креативно-познавательных возможностей фантастического в литературе .По Ю. М. Лотману, фантастика является прежде всего разновидностью художественного познания жизни, «наиболее элементарным случаем перераспределения» явлений окружающей нас действительности с целью «дешифровки» их смысла: «явление реального мира предстаёт в неожиданных, запрещённых бытовой практикой сочетаниях или в такой перспективе, которая раскрывает скрытые стороны его внутренней сущности» 12 12 Лотман Ю. М. О принципах художественной фантастики // История и типология русской культуры / Ю. М. Лотман. СПб., 2002. С.200.
.
Однако не всякое «отступление» от законов эмпирической действительности в литературном произведении имеет отношение к фантастическому. Вспомним знаменитые претензии учёных-естественников к роману «Анна Каренина»: лошадь ломает хребет в ситуации, в которой в реальной жизни сломать хребет невозможно. Подобные «отклонения» от правдоподобия нельзя рассматривать как фантастические, поскольку они не нарушают общей картины мира, вполне сознательно созданной автором как аналог объективной реальности. Будучи включёнными в общий ряд ситуаций, не противоречащих её законам, эти «несоответствия» не приводят к «перверсии вещей привычных» (Р. Лахманн), а потому «проносятся» мимо читателя, и, как правило, не вызывают удивления с его стороны.
Другое дело – фантастический образ. С точки зрения Р. Нудельмана, появляющийся в произведении фантастический образ «как „невозможное“ вступает в немедленное противоречие с „возможным“ – другими <���…> объектами и явлениями», что ведёт к «цепной реакции пересоздания действительности», которая сопровождает развитие сюжета 13 13 Нудельман Р. Фантастика // Краткая литературная энциклопедия. В 9 т. Т. 7. М., 1968. Стлб. 888.
. Этот тезис Р. Нудельман доказывает на основе рассмотрения повести Н. В. Гоголя «Нос». С самого начала произведения фантастическая ситуация нахождения носа, запечённого в хлеб, приводит к качественной «перестройке» всего изображённого мира, делая его гротескно-фантастическим, уподобленным сну. Доказательством того, что перед читателем возникает фантастическая реальность, могут служить не только описываемые «приключения» носа, но и тот факт, что всё необычное вызывает абсолютно обыденные реакции у «обитателей» этого мира. Нечто аналогичное происходит, по Вл. Набокову, и в новелле Ф. Кафки «Превращение»: «Обратите внимание на душевный склад этих идиотов у Кафки, которые наслаждаются вечерней газетой, невзирая на фантастический ужас, поселившийся в их квартире» 14 14 Набоков В. В. Франц Кафка // Лекции по зарубежной литературе / В. В. Набоков. М., 1998. С. 344.
. Именно в таких случаях разрушение привычного порядка вещей и вызывает у читателя «аффект удивления» (Р. Лахманн). В авантюрно-философской фантастике XX—XXI вв. «невозможное» вообще изначально дано как нечто буквально существующее, а, стало быть, без-условное – здесь перед читателем предстает образ уже тотально «пересозданной» действительности, «мир без границ возможного» (Н. Д. Тамарченко), «мир без дистанций» (Е. Д. Тамарченко).
Фантастическое в литературе и других видах искусства, так или иначе связанных с литературой, по-разному проявляет себя и имеет различные художественные функции. Во-первых, фантастическое в своей сверхъестественной ипостаси «волнует, страшит или просто держит читателя в напряженном ожидании» (прагматическая функция), во-вторых, – фантастическое манифестирует само себя, – «это своего рода самообозначение» (семантическая функция), в-третьих, – фантастическое «служит целям наррации», поскольку «позволяет предельно уплотнить интригу» (дискурсивная функция) 15 15 См. об этом: Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. С. 122.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу