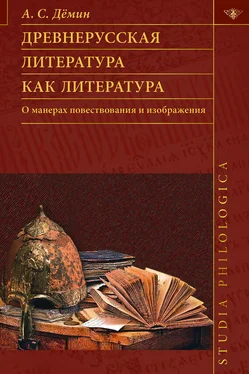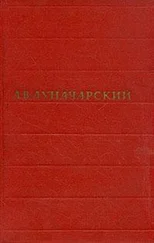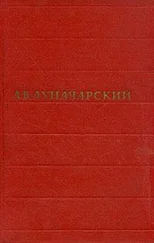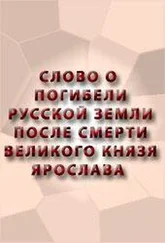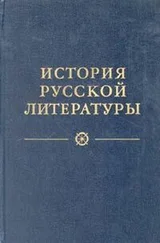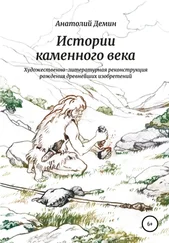Сразу же возникает вопрос, почему в пересказе летописца вавилонский столп предстал в столь неприятном свете? Ведь в источниках летописца экспрессивное, в том числе отрицательное, отношение собственно к столпу не выражалось.
Выскажем следующее предположение: у летописца вавилонский столп стал нехорош оттого, что его породили нехорошие обстоятельства. Перед рассказом помещено знаменательное сообщение: «Сим же, Хамъ и Афетъ, разделивше землю, и жребьи метавше и … никому же преступати въ жребии братень, и живяху кождо въ своеи части» (4–5). Ни в каких известных ныне источниках летописца нет такого подступа к рассказу о вавилонском столпе 6.
В качестве заключения рассказа о вавилонском столпе у летописца использовано сообщение о разделе земли уже между потомками братьев.
Показательно, что фразеология этих сообщений («разделити землю», «жити кождо», «преступати» и др.) перекликалась с фразеологией летописных высказываний не о библейских, а о русских междукняжеских территориальных отношениях; ср.: « живяху кождо со своимъ родомъ и на своихъ местехъ» (9); «и разделиста по Днепръ Русьскую землю … и начаста жити мирно и в братолюбьстве» (149, под 1026 г.); «и будете мирно живуще … и тако раздели имъ грады, заповедавъ имъ не преступати предела братня , ни сгонити» (161, под 1054 г.); « преступивше заповедь отню … бе начало выгнанью братню » (182, под 1073 г.); « кождо да держить отчину свою» (256–257, под 1097 г.) и т. д.
Благодаря своеобразной композиции рассказа о вавилонском столпе летописец неявно выразил ощущение незаконности вавилонского сборища: ведь всем «человекомъ на земли» пришлось собраться в одном месте и тем самым кардинально нарушить договор библейских братьев о том, чтобы каждому жить «въ своеи части».
Смысл летописного рассказа оказался нетрадиционным. Ведь в источниках и в книжности времени летописца вавилонское сборище хотя тоже представало «нехорошим», но совсем по другой причине – из-за непослушания людей Богу. Ср. в «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова: «вси вкупе» «прьвее человецы по потопе въ богоборнемь столпотворении» «мечтательным образом хотяще на небо възыти», чтобы спастись от второго потопа, если нашлет его Бог, и «от устрашениа высости помрачаеми пакы» 7. Наиболее ясно та же причина была растолкована в «Хронографе 1512 г.»: «Невродъ же, внукъ Хамовъ, сей человекы сътвори отъ Творца отступити … и честь, достойную Богови, яко же подобаеть, на себе въсхоте преложити безумне и съветникъ бысть на стопотворение, яко да съпротивится Богови , аще пакы помыслить навести потопъ роду человечьскому … Множество убо человекъ, послушавше съвета Невродова, здати начаша стлъпъ … суетнаго ихъ труда» 8– вот отчего «нехорошим» (безумным, суетным) явилось вавилонское сборище. В других произведениях, касавшихся истории вавилонского столпа, объяснения были короче либо вовсе отсутствовали, но все равно строители столпа оценивались как суетные и безумные: «роду человеческому … безумиемъ высокое здание наченъшимъ … безумному делу ихъ» 9; «и рече Богъ: “Се умножишася человеци, и помысли их суетьни ” … Аще бы человекомъ Богъ реклъ на небо столпъ делати, то повелелъ бы самъ Богъ словомъ» (так называемая «Речь философа», вставленная в «Повесть временных лет», 91, под 986 г. «Речь философа» не принадлежала летописцу и бытовала еще до создания древнерусской летописи 10).
Летописец усвоил отрицательное отношение к вавилонскому столпу из своих источников, но подменил объяснение: вавилонский столп был неприятен как воплощение нарушения братского договора.
Летописец закончил свое повествование введением нового мотива – сообщением о восстановлении законного порядка в размещении человечества: «и по разделеньи языкъ прияша сынове Симове въсточныя страны, а Хамови сынове – полуденьныя страны, Афетови же сынове прияша западныа страны и полунощныя страны» (5).
«Восстановительный» мотив в большом рассказе, подводившем читателя к истории происхождения славян, имел намеренно вставной характер, так как прерывал логически гладкое движение основного сюжета. Действительно, без сообщения о «сыновех» Сима, Хама, Иафета рассказ о происхождении славян развивался бы без отвлечений в сторону: «И съмеси господь Богъ языкы, и раздели на 70 и на 2 языка, и расъсея по всеи земли… От сихъ же 70 и 2 языку бысть языкъ словенескъ». Вставка о разделении земли уже между потомками братьев, как думается, понадобилась летописцу опять-таки для своеобразного закругления дополнительно введенного сюжета на тему «всё вернулось на круги своя».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу