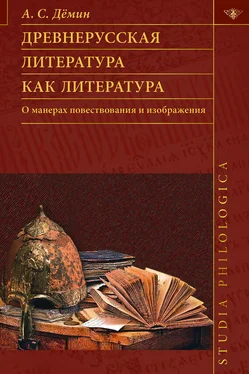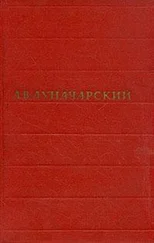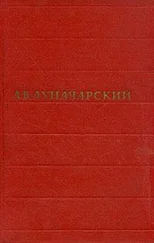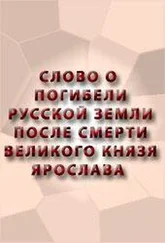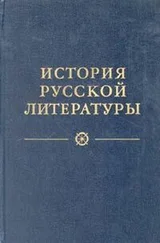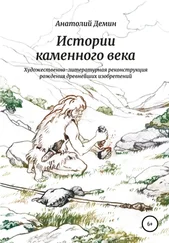В описаниях третьего вида благодаря сравнениям на один объект переносились не части, а качества совсем другого объекта, и объект как бы «переливался» или превращался в другой объект, в слитность объектов. Вот некоторые примеры. В «Варфоломеевых вопросах» у дьявола «уста … яко пропасть велика» (т. 2, с. 22), уста = глубокая пропасть. В «Вопросах Иоанна Богослова Господу» у антихриста «власы главы … остри, яко стрелы» (т. 2, с. 176), волосы = острые стрелы. В «Хождении апостола Павла по мукам» у ангелов немилостивых «очеса … светяхуся, акы звезда, восходящия заутра» (т. 2, с. 42), очи, как светящаяся Венера. Это уже образы.
Но не может ли быть так, что все приведенные примеры изобразительны только для нас, но не воспринимались таковыми в те далекие времена? Прямых отзывов на этот счет, конечно, нет. Косвенные же данные все-таки позволяют предположить, что к изобразительности своих описаний составители апокрифов стремились вполне сознательно, о чем свидетельствует обилие предметных описаний необычной внешности персонажей в апокрифах, а также то, что разного рода необычные детали сочетались в том или ином описании в отчетливый изобразительный мотив. Так, в «Варфоломеевых вопросах» в описании внешности дьявола проведен был мотив «нехорошего» горения: «огнеными веригами связан … лице же его, яко моланья; очи же его, яко искрие; от ноздри его исходяще воня смердяще» (т. 2, с. 22).
Однако изобразительность повествования все же не была самоцелью у составителей апокрифов. Вот, к примеру, образность описаний обычно возникала случайно. Такие описания редки и не совсем ясны, так как перенос качества с объекта на объект лишь подразумевался, притом мимолетно. Например, в «Вопросах Иоанна Богослова Господу» у антихриста «персти ему, аки и серпи» (т. 2, с. 176): острота, изогнутость и зазубренность серпов переносились на руки персонажа, так может показаться нам. Но контекст не позволяет утверждать, что данная ассоциация у данного автора существовала в данный момент и что автор не отделался просто традиционным сравнением.
Объяснить появление изобразительных описаний внешности персонажей с необычными предметными деталями (традиционными и нетрадиционными) можно более широкой целью составителей, чем изобразительность. Главной целью составителей (и переводчиков) апокрифов была выразительность повествования. Правда о подобной цели прямо они не заявляли. Но недаром все зрители небесного и подземного миров трепетали, ужасались и даже теряли сознание от необычности увиденного ими.
Но зачем тогда понадобилась авторам и переводчикам вся эта выразительность? Дело в том, что составители включали в апокрифы что-то вроде «путеводителей» по небесам и аду, по библейской истории и концу мира; такие «путеводители», как мы думаем, помогали читателям ясно представить внеземной мир и, наряду со всяческими разъяснениями, требовали впечатляющей предметности описаний, притом не только персонажей.
Поэтому выразительными описаниями самых различных объектов среди старейших апокрифов выделялись как раз «хождения», особенно «Откровение Авраама», «Хождение Агапия в рай», «Хождение апостола Павла по мукам», «Хождение Богородицы по мукам». Так, в путешествии Авраамия по небесам выразительно описывались не только внеземные персонажи, но и всё остальное: предметы с фантастическими деталями («видехъ … колесницю, колесы огньнъ, коежде коло полное очесъ окрестъ» – т. 1, с. 44), гиперболические звуки (целый образ): «глас бысть въ огни, яко глас водъ многъ, яко глас моря въ възмущении его», так что потрясенный Авраам, по его признанию, «хотехъ пасти ничь на земьли» – т. 1, с. 42).
В «хождениях» по небесам встречался и четвертый вид изобразительно-выразительных описаний – приобретение людьми необычных свойств, помогающих «путевождению». Так, в «Откровении Авраама» герой, внимая ангелу, необычайно долго обходится без еды и питья («40 днии и нощии и хлеба не яхъ, ни воды не пихъ, зане брашно мое бяше и питие мое зрети на ангела, сущаго со мною, и беседа его, яже со мною» – т. 1, с. 40) и наделяется необычайной остротой зрения, глядя с третьего неба («смотрихъ подъ простертие ножное и видехъ подъ 3 небесе … землю и плоди ея … и преисподьняя ея … и бездну … Видехъ ту море, и островъ его, и скоты его, и рыбы его … и уселеную… Видехъ ту рекы… И видехъ ту садъ едемъ и плодъ его … и дубие его… И видехъ ту народъ многъ, – мужь, и женъ, и детеи» и т. д. и т. п. – т. 1, с. 45–46).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу