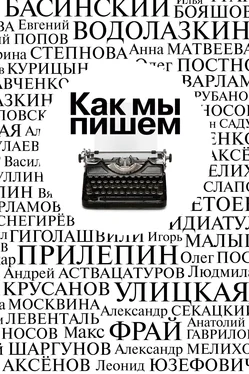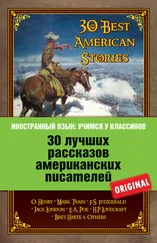Лично до меня несколько раз доносились писательские угрозы набить мне морду. И я, человек по природе недрачливый, каждый раз думал, как поведу себя в такой ситуации. Драться в ответ? А что делать потом? Молчать об этом писателе – решит, что я его боюсь. Ругать – решит, что это месть. И хвалить, даже если понравится то, что он напишет, уже нельзя. Какая цена моим лестным словам после того, как мне морду начистили?
Я не знаю ни одного серьезного критика, который обиделся на писателя за его художественное произведение. Пелевин и Сорокин топили меня в сортире, закатывали в бочку с нитрокраской, казнили на дыбе в качестве персонажа своих романов и рассказов. И я вполне отдаю себе отчет, что эта их месть имеет более пролонгированный в масштабах большого времени характер, чем мои статьи. Мне и в голову не приходило на них обижаться.
Есть, впрочем, классический пример обиды критика на писателя – это знаменитое письмо Белинского Гоголю. Но оно потому и знаменитое, что пафос его превышает все разумные пределы, все нормы здравого смысла и вообще – всё!
«Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в какое привело меня чтение Вашей книги. Но Вы вовсе не правы, приписавши это Вашим, действительно не совсем лестным отзывам о почитателях Вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б все дело заключалось только в нем; но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель».
Ну, право же, я от души посмеюсь, если какой-нибудь писатель вдруг напишет обо мне что-то подобное. «Вы лишь отчасти правы, увидев во мне рассерженного человека, этот эпитет слишком слаб и нежен… Но вы совсем не правы, думая, что причиной тому Ваш нелестный отзыв о моем романе. Нет, тут причина более важная. Критику моего романа еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать о ней. Но, не оценив мой роман, вы проповедуете ложь и безнравственность как истину и добродетель».
Впрочем, если на досуге предаться занимательному психоанализу, то можно предположить, что критик обижен на писателя как бы вообще , так сказать, пожизненно, в самой глубине души – как недоделанный буратино на хорошенького буратину, даже если дружит с ним. (Точнее пример: две подружки – красивая и некрасивая.) В этой парадигме, несомненно, что-то есть, и я даже готов с ней согласиться. Например, мне не нравится письмо Белинского Гоголю именно потому, что в нем есть что-то от Сальери. Недаром Белинский в целом положительно высказался о пушкинском Сальери и даже написал о нем такую, на мой взгляд, глупость: «Как ум, как сознание, Сальери гораздо выше Моцарта…» При этом Сальери – «талант», а Моцарт – «гений». То есть гений ниже таланта по уму и сознанию. В результате Белинский сам угодил в поставленную ловушку и в своем письме строго отчитал Гоголя за то, что тот сходил на сторону к «мракобесам». Так Моцарт «мог остановиться у трактира и слушать скрыпача слепого». Так некрасивая девочка отчитывает красивую подругу за то, что та спит с кем попало, а могла бы выйти замуж и родить потомство, потому что у нее для этого все природные качества.
Этот синдром в критиках, причем самого высокого калибра, я иногда замечал. Эдакое моральное негодование на то, что любимый писатель «свернул не туда», так сказать, изменил своему предназначению и – о боже! – испортил свою репутацию.
«Ты, Моцарт, недостоин сам себя!»
И поди разберись, чего тут больше – праведного морального гнева или затаенного комплекса собственной ущемленности и неполноценности, который и пожирает Сальери изнутри. Я знаю, что нужно делать, но не знаю как, а ты умеешь это делать, а ведешь себя неправильно. Всего-то и надо на секундочку задуматься: может, Моцарт не такой уж и дурак, может, его стеб о «скрыпаче» – это то, что Ницше определял как «всё глубокое любит маску» ?
Да, есть в нас, критиках, этот синдром Говорящего Сверчка. «Буратино увидел существо, немного похожее на таракана, но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на стене над очагом и тихо потрескивало, – крри-кри, – глядело выпуклыми, как из стекла, радужными глазами, шевелило усиками. – Эй, ты кто такой? – Я – Говорящий Сверчок, – ответило существо, – живу в этой комнате больше ста лет. – Здесь я хозяин, убирайся отсюда. – Хорошо, я уйду, хотя мне грустно покидать комнату, где я прожил сто лет, – ответил Говорящий Сверчок, – но, прежде чем я уйду, выслушай полезный совет. – Оччччень мне нужны советы старого сверчка… – Ах, Буратино, Буратино, – проговорил сверчок, – брось баловство, слушайся Карло, без дела не убегай из дома и завтра начни ходить в школу. Вот мой совет. Иначе тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. За твою жизнь я не дам и дохлой сухой мухи. – Поччччему? – спросил Буратино. – А вот ты увидишь – почччччему…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу