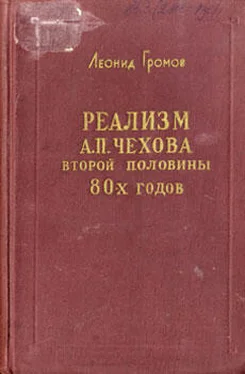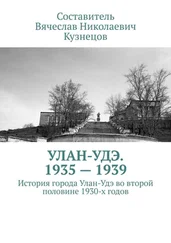Думается, что в творческую историю "Скучной истории" надо включить такие традиционные источники повести, как "Фауст" Гете, "Ученик" Бурже и "Смерть Ивана Ильича" Л. Толстого.
* * *
В письмах Чехова второй половины 80-х годов находим много высказываний о Гете и цитации произведений великого немецкого писателя. О Гете Чехов всегда говорил с большим уважением.
В письме к брату Николаю Павловичу (март 1886 г.), где раскрывается чеховский идеал воспитанного, гуманного и эстетически отзывчивого человека, дважды упоминается Гете - как образец великого человека-художника и как автор прославленного "Фауста".
В письме к А. С. Суворину (4 мая 1889 г.) Чехов высказывает предположение, что "Экклезиаст" Соломона подал мысль Гете написать "Фауста". А в другом письме к тому же адресату (15 мая 1889 г.) Чехов отметил близкое для него, писателя-врача, органическое сочетание в Гете двух качеств - художника и ученого.
Чехов в своих письмах цитирует "Песню Миньоны" Гете и трагедию "Эгмонт".
Весь этот "гетевский материал" в письмах Чехова 80-х годов свидетельствует о глубоком понимании им Гете как ученого и художника и хорошем знании его творчества. А то обстоятельство, что большое количество высказываний о Гете сосредоточено в письмах Чехова того периода, когда созревал и развивался замысел "Скучной истории", дает право утверждать, что в числе литературных источников, близких автору "Скучной истории", был прежде всего "Фауст" Гете - первое глубокое произведение мировой литературы, изображающее философские искания ученого. Доктор Фауст - весь поглощен поисками смысла жизни. Этому подлинному ученому-искателю Гете противопоставил ограниченного педанта в науке и философии - Вагнера.
Впервые в русской критической литературе глубокую трактовку гетевской антитезы - Фауст и Вагнер - дал В. Г. Белинский в статье "Славянский сборник Н. В. Савельева-Ростиславича" (1845). Белинский писал: "Через ученость люди доискиваются истины; через ученость доискивался истины Фауст, тревожимый внутренними вопросами, мучимый страшными сомнениями, жаждавший обнять, как друга, всю природу, стремившийся добраться до начала всех начал, до источника жизни и света... Но через ученость же добивался истины и Вагнер, человек узколобый, ограниченный, слабоумный, сухой, без фантазии, без сердца, без огня душевного, прототип педанта... Вагнеров много, и они подразделяются на множество родов и видов..." (В. Г. Белинский. Поли. собр. соч. Т. IX. 1955, стр. 181 - 182.)
Вот эта гетевская антитеза "учености", блестяще охарастеризованная Белинским, легла в основу чеховского противопоставления ученого-искателя его прозектору-педанту.
Чеховский педант явился разновидностью гетевского Вагнера, как и Фауст явился в известной мере прообразом чеховского старого ученого. Важно отметить, что Чехов, характеризуя своего "Вагнера" прозектора, пользуется отдельными образными выражениями, совпадающими с характеристикой у Белинского. В статье Белинского читаем: "... Вагнер ограничен и, как говорится, недалек и пороха не выдумает... Вагнер в науке видит не науку, а свою мысль и свое самолюбие. Он... садится на науку, как на лошадь, зная вперед, куда привезет она его..." (В. Г. Белинский. Поли. собр. соч. Т. IX. 1955, стр. 182-183.) В повести Чехова прозектор образно характеризуется так: "...это ломовой конь, или, как иначе говорят, ученый тупица... он пороха не выдумает".
Совпадает у Чехова с Белинским еще одна, положительная сторона характеристики этого типа ученого. Белинский считает, что и ограниченные люди могут принести известную пользу науке "эмпирически и фактически", "очищая старые факты и натыкаясь на новые".
Чехов говорит о прозекторе: "Работает он от утра до ночи, читает массу, отлично помнит все прочитанное - ив этом отношении он не человек, а золото... Будущность его представляется мне ясно. За всю свою жизнь он приготовит несколько сотен препаратов необыкновенной чистоты, напишет много сухих, очень приличных рефератов, сделает с десяток добросовестных переводов, но пороха не выдумает".
Близка была автору "Скучной истории", герой которой ищет "общую идею или бога живого человека", и мысль Белинского о том, что "человек", который посвящает себя науке, не только может, должен быть живым человеком..." (В. Г. Белинский. Поли. собр. соч. Т. IX. 1955, стр. 183.) Все указанные совпадения - идейные, образные, словесные - у Чехова с Белинским дают основание выдвинуть гипотезу, что Чехову была известна и близка та интерпретация идейного смысла "Фауста" Гете, которую дал Белинский в своей статье. По всей вероятности, великий русский критик помог молодому писателю оформить важную для "Скучной истории" антитезу двух типов ученых, идущую от "Фауста" Гете.
Читать дальше