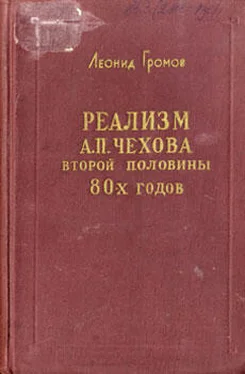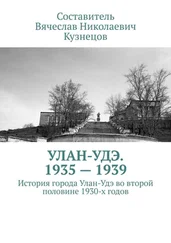Нельзя согласиться с мнением А. Гроссмана о том, что эстетика Чехова развивалась под влиянием теории Золя об экспериментальном романе. Внешне у Чехова и Золя есть точки соприкосновения: оба писателя признавали значение науки для художественной деятельности человека. Чехов говорил о том, какую значительную роль в его творчестве сыграло медицинское образование; он указывал также и на то, что писатель должен быть таким же объективным, как и химик. Но все эти высказывания Чехова надо понимать в том смысле, что научное образование, научный метод помогают писателю лучше, глубже разобраться в жизненных явлениях, в человеческой психологии и вырабатывают у писателя навыки "научно-художественного" мышления. Художественное творчество - это искусство, но это искусство тем ценнее, чем больше оно опирается на научные данные. Еще В. Г. Белинский подчеркивал: "Наука, живая, современная наука, сделалась теперь пестуном искусства и без нее - немощно вдохновение, бессилен талант". (В. Г. Белинский. Поли. собр. соч. Т. VI. 1955, стр. 488).
Нет искусства без науки, нет науки без искусства. Наука и искусство взаимопроникают, обогащают друг друга.
Н. А. Добролюбов говорил в "Темном царстве" о необходимости связи знания с искусством и о слиянии науки и поэзии как об идеале в искусстве, хотя сам критик понимал не только то общее, что' роднит "величие философствующего ума" и "величие поэтического' гения" (глазное - умение отличать существенные черты предмета от случайных), но отмечал и "разницу между мыслителем и художником"-в их специфической творческой деятельности.
Чехов в значительной мере приблизился к добролюбовскому идеалу слияния в искусстве научного познания предметов и их творческого обобщения, воспользовавшись в своем художественном освоении мира "мудростью научного метода" и отдельными естественно-научными и медицинскими знаниями. Но Чехов никогда не отождествлял искусства с наукой. О" прекрасно понимал специфичность этих двух видов человеческого познания.
Особенно интересным в этом отношении является письмо Чехова к Суворину от 3 ноября 1888 г., где содержится много ценных суждений, характерных для эстетики Чехова. Чехов в этом письме, как и в других случаях, выступает панегиристом науки и научного мышления: "Кто усвоил себе мудрость научного метода и кто поэтому умеет мыслить научно, тот переживает немало очаровательных искушений" 2Т. 14, стр. 216..
Чехов, высоко ценя научный метод, вместе с тем очень осторожен в "искушениях". Признавая материалистическую детерминированность явлений действительности, Чехов видит в то же время и специфические особенности отдельных проявлений жизни. Чехов говорит: "Кто владеет научным: методом, тот чует душой, что у музыкальной пьесы и у дерева есть нечто общее, что та и другое создаются по одинаково правильным, простым законам". Но Чехов считает нецелесообразным искать "физические законы творчества", те формулы, по которым "художник, чувствуя их инстинктивно, творит музыкальные пьесы, пейзажи, романы и проч.". По мнению Чехова, "физиология творчества, вероятно, существует в природе, но мечты о ней следует оборвать в самом начале. Т. 14, стр. 216.Свою точку зрения Чехов убедительно аргументирует. Он, материалистически решая вопрос о художественном творчестве (оно, как и все явления жизни, подчиняется в конечном счете общим законам лрироды), считает бесполезным разрабатывать вопросы физиологии творчества, так как открытие "клеточек" или "центров", заведующих способностью творить, не поможет разобраться в этой специфической деятельности человека. И Чехов приходит к верному выводу: "есть единственный выход - философия творчества". (Т. 14, стр. 217.) Только разработка вопросов философии творчества может раскрыть закономерности в этой специфической области.
Чехов предлагает метод разработки философии творчества: "Можно собрать в кучу все лучшее, созданное художниками во все века, и, пользуясь научным методом, уловить то общее, что делает их похожими друг на друга и что обуславливает их ценность. Это общее и будет законом. У произведений, которые зовутся бессмертными, общего очень много; если из каждого из них выкинуть это общее, то произведение утеряет свою цену и прелесть. Значит, это общее необходимо и составляет conditio sine qua non всякого произведения, претендующего на бессмертие." (Там же.)
Нельзя не согласиться с Чеховым в том, что у так называемых вечных созданий искусства, литературы есть ряд общих черт, делающих их бессмертными; определить эти общие черты, раскрывающие законы художественного творчества, - почетная задача философии. Надо к этому высказыванию Чехова добавить, что философия может успешно справиться с этой задачей, если она будет руководствоваться правильной научной методологией, а такой методологией может быть только марксизм. Буржуазная методология оказалась бессильной в решении сложных вопросов художественного творчества (известно, что буржуазный философ Риккерт заявил, что творчество - это сугубо интимная область, поэтому оно не подлежит научному изучению).
Читать дальше