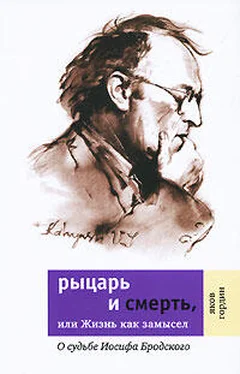Все, что делал Иосиф Бродский – его поэзия, его эссеистика, его лекции, – все это было возведением барьера против стихии варварства, которым в принципе чревато мироустройство. Он слишком хорошо знал грубое варварство советской эпохи с его безжалостной экспансией в человеческие души, и уже тогда поэзия – изящная словесность – представлялась ему ковчегом для тех, кто хотел сохранить в себе человека. И настойчивое стремление – вослед за Пушкиным и Мандельштамом – вживить высокую европейскую традицию в пространство русской поэзии было одной из составляющих его «антропологического дела» – спасения человека.
2001
Я вижу некий свет…
Пушкин
И вымолвить хочет: «Давай улетим!»
Пушкин
Одна из определяющих черт поэтики Иосифа Бродского шестидесятых годов – прямая связь жанра и содержательно-смыслового аспекта стихов. Это становится ясно при анализе довольно большого комплекса стихотворений этого периода, образующих, как мы увидим, некое эпическое пространство, в котором особый, Бродским созданный жанр неумолимо детерминирован задачей воссоздания важнейшего для него в тот момент экзистенциального слоя.
Подобный опыт «выращивания жанра» для решения экзистенциальных задач был реализован поздним Пушкиным. Это был жанр «больших поэтических отрывков» («Когда владыка ассирийский», «Альфонс садится на коня», «Езерский»). Бродский осознанно или полуосознанно идет тем же путем. Его образцы нового жанра, по сути дела, тоже отрывки. В них, кроме «Горбунова и Горчакова», нет сюжетной завершенности поэм. Но при этом работа Бродского – решение иных задач иного времени.
Неверно, что «цель поэзии – поэзия». Это Пушкин написал в эпистолярном запале, раздраженный поэтической агитацией Рылеева, для которого поэзия и в самом деле была исключительно функциональна и который превратил ее в служанку сиюминутной политики. Автор данной статьи придерживается той банальной точки зрения, что у поэзии есть внешняя цель и эта цель – гармонизация мира. Это подтверждается и самим устройством «вещества поэзии» – ритмами, рифмами, мелодикой. Даже верлибры оказываются в сфере поэзии, только если в них ясно ощущается строгая организованность. Поэзия – ритуальное, религиозное действо, если угодно.
Фундаментальные цели высокой русской поэзии всегда совпадали с целями христианства, если иметь в виду не общий эсхатологический финал – Страшный Суд и конец истории, а пределы жизни каждого конкретного человека. Ведь эта цель и заключается в гармонизации взаимоотношений человека и мира, гармонизации прежде всего духовной – через понимание мира и примирение с миром. Бурные гении, бунтари Пушкин и Лермонтов прошли этот путь – от мятежа и неприятия к пониманию и примирению.
Бродский, прямо наследуя золотому и серебряному веку русской культуры, проходит этот путь на наших глазах. И в этом особенность и прелесть ситуации. В 1958 году, в самом начале пути, он пишет стихотворение «Памятник Пушкину» и сразу после этого – балладу о Лермонтове. И в том и в другом случае отношение к гигантам почти интимное. В 1962 году в «Стансах городу» он прямо соотнес себя с Лермонтовым:
Да не будет дано
умереть мне вдали от тебя,
в голубиных горах,
кривоногому мальчику вторя.
Назвать Лермонтова в этом горьком и трогательном контексте «кривоногим мальчиком» (что соответствовало действительности) возможно было, лишь ощущая роковую связь с ним.
Юный Бродский прошел через все возможные влияния и ориентации, через все привязанности литературной молодежи пятидесятых: Лорка, Незвал, джазовая культура, Багрицкий… Но краеугольные камни классической поэзии, обнаруженные им просто-напросто на уроках литературы, проступали сквозь все – не как затверженные формальные ориентиры, а как угаданная коренная порода, «почва и судьба». Молодой Бродский, воспринимавшийся читателями и слушателями как «новый поэт», вызывающе демонстрировал свою связь с Пушкиным. В 1961 году в «Шествии», в совершенно неподходящем, казалось бы, контексте, он дает подчеркнуто «пушкинский текст»:
Волнение чернеющей листвы,
волненье душ и невское волненье,
и запах загнивающей травы,
и облаков белесое гоненье,
и странная вечерняя тоска,
живущая и замкнуто и немо,
и ровное дыхание стиха,
нежданно посетившее поэму…
[…]
Люблю тебя, рассветная пора,
и облаков стремительную рваность
над непокрытой влажной головой,
и молчаливость окон над Невой,
где все вода вдоль набережных мчится
и вновь не происходит ничего,
и далеко, мне кажется, вершится
мой Страшный суд, суд сердца моего.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу