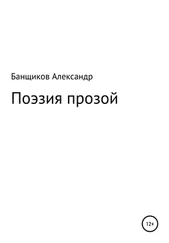«Осень жизни мира, осень бытия человека! Неужели ты наступила для нас? … И воет буря осенняя, и солнце палит, но не греет земли; грозная комета ходит по небесам — предвещание грядущей беды среди ночи зимней! И все мечты, все создания оставшихся бедняков, все наши мелкие помыслы — листочки, пожелтелые на грязной, холодной, застывшей почве мира!
Радуйтесь наступлению благодетельного промышленного века, который буровит пароходами море, оковывает землю железными дорогами, уничтожает биржевым расчетом процентов пылкие расчеты ума гения».
Вместе с тем, здесь уже предугаданы интонации и образы «Осени» Боратынского (1836 — 1837) с ее символическим «вечером года», надвигающейся мертвой зимой и «тощей землей в широких лысинах бессилья».
Быть может, одна из культурно-исторических заслуг Полевого заключается в той лепте, которую он, помимо своей воли, внес в лирическое достояние Боратынского. В лице последнего «поэзия мысли» хозяйственно утилизовала музу «торгового направления».
1. Цит. по: Песков А. М. Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. М., 1998. С. 198.
2. «Зачем мою хорошенькую Музу, / Голубчик мой, ты вздумал освистать? / Зачем, скажи, схоластики обузу / На жар ума ты вздумал променять? / Тебя спасал сто раз, скажи, не я ли? / Не я ль тебя лелеял и берег, / Когда тебя в толчки с Парнаса гнали, / Душа моя, Парнасский простачок» (Там же. С. 241).
3. Вяземский К[нязь]. Тариф 1822 года, или Поощрение развития промышленности в отношении к благосостоянию государств и особенно России // Библиотека для чтения. 1834. Т. 3. Отд. III. С. 133, 135, 137.
4. Здесь, как и во всех прочих цитатах, курсив мой. — М. В. Графические выделения подлинника переданы разрядкой.
5. В более традиционном, гесиодовском, значении термин «железный век» ранее был использован Вяземским в стихотворении «Три века» (1829): «Поэт заснул в губительном чаду, / Тут на него напущен век железный».
6. Об истории этого стихотворения, связанного с тяжелой болезнью дочери Вяземского, см.: Песков А. М. Указ. соч. C. 324, 379.
7. На соотнесенность «железного века» у Боратынского с темой «чугунных дорог» указывают, хотя и в иной связи, Е. Е. и Е. А. Давыдовы. — Давыдовы Е. Е. и Е. А. «Последний поэт» Боратынского // К 200-летию Боратынского: Сборник материалов международной научной конференции, состоявшейся 21 — 23 февраля 2000 г. (Москва, Мураново). М., 2002. С. 125-126.
8. Вяземский К[нязь]. Указ. соч. С. 134-135.
9. Московский телеграф. 1832. Ч. 43. № 3. С. 434.
10. Полевой Н. Абадонна. Ч. 2. Изд. 2. СПб., 1840. С. 159.
11. Песков А. М. Указ. соч. С. 344-345.
12. Мазур Н. Н. «Недоносок» Баратынского // Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сборник к 70-летию В. В. Иванова. М., 1999. С. 150.
13. Полевой Н. Указ. соч. Ч. 4. С. 127, 129.
14. Там же. Ч. 3. С. 71.
15. Приношу искреннюю благодарность М. Виролайнен, которая высказала ряд ценных замечаний в ходе моей работы над этой статьей.

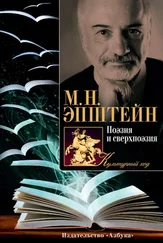




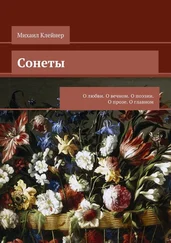

![Михаил Вайскопф - Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.]](/books/430618/mihail-vajskopf-pisatel-stalin-yazyk-priemy-syuzhety-3-e-izd-thumb.webp)