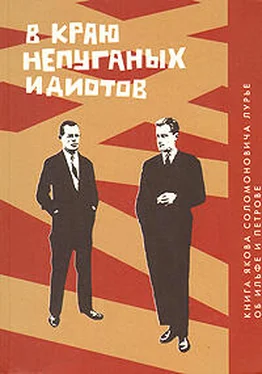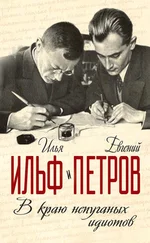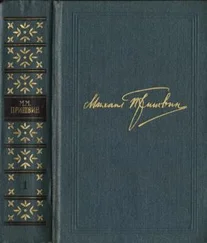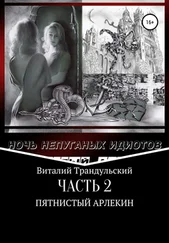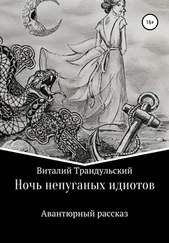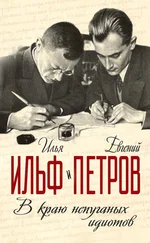История советского производственного романа еще не написана. Но даже самое общее ознакомление с этой литературой обнаруживает одну любопытную закономерность. Еще с 1920-х гг. индустриальный фон присутствовал во множестве произведений официально одобренной литературы; наличие его считалось достоинством, а отсутствие — серьезным недостатком. Но это был только фон или в лучшем случае литературная иллюстрация заранее заданной идеологической схемы, как у Катаева. Однако прошли десятилетия, и в советской литературе появились произведения, авторы которых действительно пришли с производства и всерьез захотели осмыслить происходящие там явления. В 1960-х гг. вышли в свет «Большая руда» и «Три минуты молчания» Г. Владимова, «Хочу быть честным» В. Войновича и другие подобные им книги. И тогда оказалось, что произведения эти вовсе не были нужны идейным опекунам литературы — они вызвали у них не радость («наконец-то производственный роман!»), а, напротив, крайнее раздражение.
Ильф и Петров работали совсем в иных условиях, чем их собратья тридцать лет спустя, и исходили, по-видимому, из более оптимистического взгляда на положение страны. Но и они были честными писателями и задачу свою видели не в подгонке материала под заданную схему, а в добросовестном изучении окружающего их мира.
Для такого изучения им вовсе не нужно было «что-то сваривать». Существовала область, которую они отлично знали изнутри. Этой областью была массовая пресса, большая газета, с работы в которой началась их совместная трудовая жизнь, и многочисленные журналы. И первым опытом проникновения в сферу близкого им «производства», задуманным ими еще в 1929 г., должна была быть повесть о газете — «Летучий голландец». В большой профсоюзной газете «Труба» (или «Протокол»), описанной в набросках к «Летучему голландцу», легко узнать «Гудок» — газету, в которой когда-то работали Ильф, Петров, Булгаков, Катаев и Олеша и которая с 1927 г. растеряла всех этих сотрудников.
«Гудок» был органом профсоюза железнодорожников, и, работая в нем, авторы имели возможность познакомиться с деятельностью профсоюзов — организаций, смысл и назначение которых вызывали после Октября немало споров. Нужны ли в рабочем государстве организации для защиты прав и интересов рабочих? Во время дискуссии, проходившей перед самым приездом Ильфа и Петрова в Москву, столкнулись два противоположных решения этого вопроса: предлагалось «огосударствить», т. е. фактически уничтожить профсоюзы, или, напротив, отдать в их распоряжение большинство обобществленных предприятий. Победила третья точка зрения — профсоюзы были объявлены «школой коммунизма» и «приводными ремнями», но реальная их роль по-прежнему вызывала постоянные недоумения.
Во всяком случае, для Ильфа и Петрова тема профработы неизменно была связана с ощущением бессмыслицы и тягучей скуки. «Школу профучебы» организует в «Геркулесе» полуответственный бездельник Скумбриевич (Т. 2. С. 210); другой такой же симулянт Самецкий из рассказа «Здесь нагружают корабль» организует в своем учреждении жуткую по бессмысленности ночную «скорую помощь пожилому служащему в ликвидации профнеграмотности»: «В ночной профилакторий никто не приходил. Там было холодно и страшно» (Т. 3. С. 11). «Превратим парк в кузницу выполнения решений съезда профсоюзов»— гласит плакат в известном фельетоне о Парке культуры и отдыха «Веселящаяся единица». В парке проектируется веселый аттракцион: шахта глубиной в тридцать метров, куда можно спустить на бадье отдыхающего пожилого рабочего, чтобы он получил в «подземном профпрофилактории» «нужные сведения по вопросам профчленства и дифпая»(Т.З.С. 206, 208).
Но в «Трубе» из «Летучего голландца» можно узнать не только профсоюзную, но и любую советскую газету:
Информации абсолютно не придавалось значения. Японское землетрясение опоздало на неделю. Считали, что союзной массе это не интересно… Вообще было принято думать, что союзной массе ничего не интересно… Как выкинули сотрудника, который допустил миниатюрную ошибку в стенограмме речи миниатюрного вождя… Глухая подземная война с грамотностью. В особенности жестоко боролись в ночной редакции под грохот машин… Профавторы с длинными, абсолютно неграмотными статьями требовали, чтобы у них не изменяли ни единого слова.
Рассказывалось в повести (как мы уже упоминали) и о типичном для печати тех лет презрении к интеллигенции — том презрении, которое критики нашего времени стали приписывать самим Ильфу и Петрову.
Читать дальше