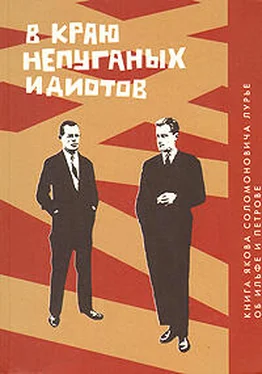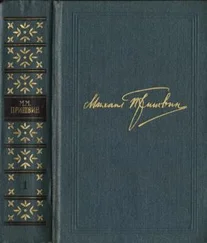Истомила Идея бесплодьем интрижек,
По углам паутина ленивой тоски,
На полу вороха неразрезанных книжек
И разбитых скрижалей куски.
Но рядом с ними другие, явно симпатичные автору персонажи — студентки-медички и замученный лаборант, «Мадонна шестого семестра» Женского медицинского института.
В публицистике эта точка зрения была высказана определеннее всего А. Пешехоновым. Для Пешехонова, как и для Чехова, нет интеллигенции вообще, а есть люди, чье образование налагает на них определенные обязанности. До 1905 г. между интеллигенцией и народом стояла стена, установленная государством, и стена недоверия. «Под напором революционного возбуждения обе стены рухнули… Прежде, однако, чем произошло органическое слияние интеллигенции и народа, стена опять встала между ними — стена полицейских стеснений… Имеются люди, которые пытаются восстановить и другую стену — стену непонимания и недоверия, — восстановить ее, если не в жизни, то в воображении…»
А между тем реальный, а не абстрактный народ хочет от интеллигенции прежде всего одного — знаний, книг. «Если интеллигенции не с чем сейчас идти к народу, то пусть она на его нуждах и потребностях сосредоточит хотя бы свое внимание: мысль не замедлит вскрыть, что от нее народу нужно. Да и сейчас много найдется, с чем можно и нужно идти к народу… Если камень свалился, будем опять, хотя и медленно, поднимать его в гору…» [64]
Представляют ли эти споры какой-нибудь интерес сейчас, в конце XX в.? Современникам и читателям Ильфа и Петрова, несомненно, показалось бы, что речь идет о проблемах далекого прошлого. Но прошли еще десятилетия, началась переоценка полувекового опыта, и старый сборник вновь привлек к себе внимание, обретя неожиданную популярность. Интеллигенты 1960-1970-х и особенно 1990-х гг. XX в. увидели в двенадцатилетии между двумя русскими революциями не тяжелую эпоху безвременья, а, напротив, светлые годы России — чуть ли не время «парламентаризма», а в «Вехах» усмотрели предостережение против грядущей революции.
Справедливо ли это? В «Вехах» действительно осуждалась революция, но не будущая, а прошедшая — революция 1905 г.
Авторы «Вех» были убеждены, что революция безнадежно провалилась, а самодержавие победило надолго, может быть навсегда, и исходили именно из такого признания: «Россия пережила революцию. Эта революция не дала того, чего от нее ожидали…» [65]Старая гегелевская формула о разумности действительного, о неизбежности совершившегося не раз оказывала влияние на русских интеллигентов. Пафос «Вех» не в предостережении против будущей революции, а в призывах к отказу от политической борьбы — во всяком случае, в тех ее формах, какие проявились в 1905 г. И единственный конкретный совет на будущее, который мы находим в «Вехах», — последовать примеру «национальной революции», совершившейся в 1908 г. в Турции. Заявляя в заключение своей статьи, что «самый тяжелый удар русской интеллигенции нанесло не поражение освободительного движения, а победа младотурок», Изгоев писал: «…история младотурок была и вечно будет ярким примером той нравственной мощи, которую придает революции одушевляющая ее национальная идея». [66]Для того чтобы проверить прозорливость Изгоева, не понадобилось вечности: «нравственная мощь» младотурок обнаружилась уже спустя несколько лет, когда носители «национально-государственной идеи» осуществили первый в истории XX в. геноцид, уничтожив более миллиона армян.
Но в феврале 1917 г. русская революция, которой не ждали ни «Вехи», ни вообще большинство интеллигентов, политиков и прочих граждан, совершилась. Как же отнеслись к ней те, кого часто считают провидцами будущих бед России? Не только с одобрением, но и с восторгом. «Русская революция — самая национальная, самая патриотическая, самая всенародная из всех революций, наименее классовая по своему характеру… И эта особенная связь революции с войной не может быть разорвана, она должна продолжаться. Патриотическое негодование способствовало свержению старой власти, подозрение в измене и предательстве нравственно доконало старую власть; неспособность ее стать на высоте задач обороны страны сделали объективно невозможным ее дальнейшее существование. Этот патриотически-оборонческий мотив русской революции обязывает ее продолжать войну» [67]— писал Н. А. Бердяев.
Этой же теме была посвящена и его специальная брошюра «Интернационализм, национализм и империализм». «Только сознательный и прогрессивный русский империализм может охранить мир и все народы мира от опасности воинствующего, насильнического, одержимого волей к господству германского империализма», — писал Бердяев. Недопустима бессмысленная фраза «без аннексий и контрибуций», недопустимы и лозунги национального самоопределения народов России: «…национальное самоопределение Украины есть просто наша болезнь и наше несчастье… Использовать трудные для России дни хотят и финляндцы, хотят все. Кавказ желает отделиться… Притязания великих национальностей, создавших великие государства и культуры, на государственное и культурное преобладание должны быть признаны, как выражение реальной творческой мощи, как источник излучения света для национальностей малых и слабых. Реальный вес великоросса иной, чем белоруса, чем грузина или татарина…» Величие империализма и ложность идей национального самоопределения подтверждается и мировым опытом: «Колонии чувствуют неразрывную связь с Англией и любят ее… Империализм жертвенен и вдохновляется силой, славой и ценностью расового духа для мировой жизни, социализм же утилитарен и вдохновляется исключительно счастием и благополучием людей» [68]. К той же теме Бердяев возвращается еще не раз. «Мечтательный интернационализм, — писал он, — оттесняет нас в Азию и уединяет нас. Он обрекает нас на одинокий позор. Да не будет этого, да восстанет против этого русский народ, который спасал Россию в смутную эпоху и в отечественную войну!» [69]
Читать дальше