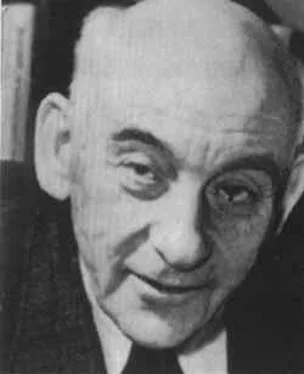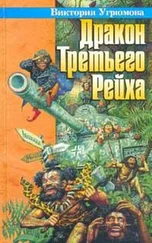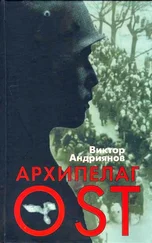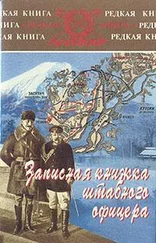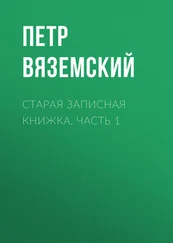Любой материал можно было достать лишь нелегально, пользоваться же им – только тайно. Много ли мог я сделать таким путем! Ведь как только я пытался проникнуть в корни какой-нибудь проблемы, для чего мне, разумеется, требовался специальный филологический материал, тут-то меня и подводили библиотечные абонементы, а в публичные библиотеки-читальни дорога была мне заказана.
Возможно, кто-нибудь подумает, что коллеги или бывшие ученики, достигшие к тому времени известного положения, могли бы помочь в моей беде, они могли, скажем, брать для меня книги в библиотеках. Боже сохрани! Это был бы акт личного мужества, это означало бы подставлять себя под удар. Я часто цитировал на лекциях милое старофранцузское стихотворение, но только потом, уже лишившись кафедры, я прочувствовал его по-настоящему. Поэт, попавший в беду, с грустью вспоминает многочисленных amis que vent emporte, et il ventait devant ma porte («друзей, которых унес ветер, ведь ветрено было у моих дверей»). Не хочу быть несправедливым: я нашел верных и бесстрашных друзей, но среди них как-то не оказалось коллег по моей узкой тематике или из смежных областей.
Потому-то и попадаются в моих заметках и выписках на каждом шагу пометки вроде: «Выяснить после!», «Позднее дополнить!», «Потом раскрыть!» А если надежда на то, что это «позднее» когда-нибудь настанет, угасала, то делалась запись: «Хорошо бы в свое время заняться»…
Сегодня же, когда это «позднее» еще не стало зримой реальностью, но вот-вот все-таки наступит, ибо книги уже появляются из мусорных куч и разруха на транспорте преодолевается (и поскольку человек, участвовавший в восстановлении, может с чистой совестью возвратиться из vita activa, активной жизни, в кабинет ученого), сегодня я знаю, что все же не смогу довести мои наблюдения, рассуждения и анализ языка Третьего рейха (все это существует в виде набросков) до уровня научного труда.
Для этого потребно было бы больше материалов, а возможно и лет жизни, чем есть у меня, одиночки. Ибо предстоит еще огромная работа специалистов в различных областях; германисты и специалисты по романистике, англисты и слависты, историки и экономисты, юристы и теологи, инженеры и ученые-естественники должны будут в отдельных работах и целых диссертациях решить массу частных проблем, прежде чем какой-нибудь смельчак с широким кругозором отважится обрисовать Lingua Tertii Imperii во всей его полноте. Но предварительное нащупывание, первые вопросы к вещам, зафиксировать которые пока нельзя, ибо они все еще изменчивы и текучи, или, как выражаются французы, работа первого часа, все-таки принесет какую-то пользу будущим исследователям этой проблемы; я думаю, для них будет ценна даже возможность увидеть их объект на стадии наполовину осуществившейся метаморфозы, частично как рассказ о конкретном переживании, а частично уже в переводе на язык понятий научного анализа.
Но если такова цель моей книги, почему я не издаю записную книжку филолога в том виде, в каком ее можно вычленить из более интимного и более общего дневника тех трудных лет? Почему то и другое соединено в одном обозрении, почему взгляды того времени часто сопровождаются оценками сегодняшнего дня, первых лет послегитлеровской эры?
Отвечу на этот вопрос подробно. Дело в том, что здесь присутствует некоторая тенденция и помимо научной цели я преследую еще и цель воспитательную.
Ныне много говорится о необходимости выкорчевывания фашистского мировоззрения. Согласен, в этой области делается немало. Военные преступники садятся на скамью подсудимых, «мелкие PG» [11](а это уже язык Четвертого рейха!) лишаются своих постов, национал-социалистические книги изымаются из обращения. Площади Гитлера и улицы Геринга переименовываются. Спиливаются дубы, посаженные в честь Гитлера. Но некоторые характерные выражения дают повод предположить, что язык Третьего рейха выживет; они въелись настолько глубоко, что кажется, готовы уже внедриться в постоянный словарный состав немецкого языка. Сколько раз, к примеру, начиная с мая 1945 г., слышал я в речах по радио упоминания о «характеристических» особенностях или о «бойцовской» сущности демократии! Эти выражения исходят из ядра LTI (Третий рейх высказался бы: «из сущностной сердцевины»). Может быть, виной всему педантичность, заставляющая меня придираться к таким вещам, а может быть, и педагог, сидящий в каждом филологе?
Хочу уточнить вопрос новым вопросом.
Какое пропагандистское средство гитлеровщины было самым сильным? Были ли это отдельные речи Гитлера и Геббельса, их разглагольствования по тому или иному вопросу, их травля евреев, поношения большевизма?
Читать дальше