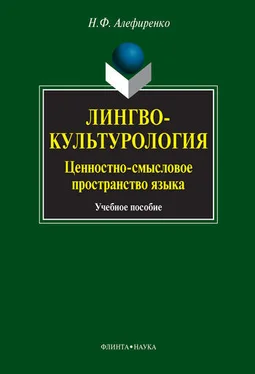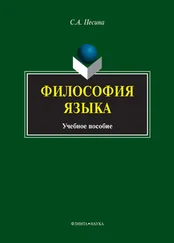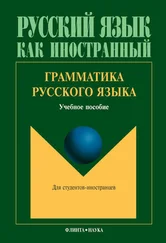1 ...7 8 9 11 12 13 ...123 Вместе с тем, чтобы из совокупности концептов возникла концептосфера (открытая, самоорганизующаяся система), каждый концепт подвергается системообразующему давлению и устанавливает необходимые для самоорганизующейся системы связи и отношения с другими концептами. В итоге в составе концептосферы концепты оказываются в достаточно гармоничном сочетании.
Концепт – это гетерогенезис, т. е. упорядочение составляющих по их смежности. Он представляет собой интенсионал, присутствующий во всех его составляющих (интенсионал – в данном случае содержание обыденного понятия в отличие от его объема). Непрерывно активизируя свои составляющие, концепт находится по отношению к ним в состоянии парящего полета. «Парение» – это состояние концепта, характерная для него бесконечность. В этом смысле концепт есть не что иное, как мыслительный акт, причем мысль действует здесь с бесконечной скоростью.
Концепт непосредственно соприсутствует во всех своих составляющих или вариациях. Он не телесен. Если использовать термины знаковой структуры, то его можно сравнить с означаемым, лишенным означающего. Поэтому, как и все идеальное, концепт нуждается в своей материальной репрезентации с помощью слов, фразем, словосочетаний и даже микротекстов. Так, концепт «утро» можно выразить словом, словосочетанием и даже стихотворением. Ср.: утро, рождение дня и стихотворение «Утро».
Вместе с тем следует помнить, что концепт принципиально не совпадает с тем состоянием предметов, в котором осуществляется. Лишенный пространственно-временных координат, он имеет лишь интенсивные ординаты. В нем нет энергии – есть только интенсивность (энергия – это не интенсивность, а способ ее развертывания и уничтожения в экстенсивном состоянии предметов). Вот почему концепт – это не сущность и не предмет, а некое «чистое» событие. При этом предмет (вещь), став знаком события, может превратиться в концепт, т. е. лишиться пространственно-временных координат, энергии и представлять некую идею.
Даже образ конкретной вещи может стать концептом, если он будет мыслиться как событие. Вспомним голубую чашку в одноименном рассказе А. Гайдара. Соответственно, концепт одновременно абсолютен и относителен.
Он относителен:
♦ к своим собственным составляющим, к другим концептам;
♦ к плану, в котором он выделяется;
♦ к проблемам, которые призван разрешать.
Вместе с тем концепт абсолютен:
♦ благодаря осуществляемой им конденсации (сгущению смысловых элементов);
♦ по месту, занимаемому им в концептосфере;
♦ по условиям, которые он предписывает соотносимой с ним идее.
Итак, концепт амбивалентен (двойственен, противоречив): абсолютен как целое, но относителен в своей фрагментарности. Он бесконечен в своем парящем полете, но конечен в том движении, которым описывает очертания своих составляющих. Он реален без актуальности, идеален без абстрактности. Концепт автореферентен (греч. autos – сам, referens (referentis) – предмет знакообозначения), так как, будучи творим, он одновременно представляет и себя, и свой объект.
Наконец, концепт недискурсивен (лат. discursus – в данном случае ʽбеседа, разговорʽ), так как не выстраивает пропозиции. Только отождествляя концепт и пропозицию, можно верить в существование научных концептов. Пропозиции наряду с категориями, понятиями – единицы научного мышления, концепт же – не пропозиционален. Соответственно пропозиция – не концепт, поскольку она никогда не бывает интенсионалом, представляющим собой сущность концепта. Кроме того, пропозиции определяются референцией, которая не связана с событием – базовым субстратом концепта. Наконец, независимость переменных в пропозициях противостоит вариативной целостности концепта.
Выделенные свойства и признаки концептов обусловлены тем, что возникают они в сознании человека не только как намеки на возможные значения, но и как отклики на предшествующий языковой опыт человека в целом – поэтический, прозаический, научный, социальный, исторический.
И все же одним из самых главных свойств концепта является его обращенность к культуре. Культурный компонент значения языковых знаков, как известно, издавна привлекает внимание исследователей. Пожалуй, впервые Джон Милль предложил относить его к сфере коннотации слова. Вслед за ним, учитывая культурологическую значимость этого феномена, Роберт Ладо называет коннотацию культурным значением, а Чарлз Фриз – социально-культурным. Современные ученые предпочтение отдают термину, введенному в нашу науку Е. Найдой, выделявшим в значении слова «эмоциональный, коннотативный компонент». Для когнитивной лингвокультурологии модель последнего термина (в усеченном виде – «культурный компонент») оказалась наиболее приемлемой, поскольку позволяет проникнуть в глубинные механизмы вербализации когнитивных категорий. Как ни парадоксально, но, несмотря на огромный интерес к коннотации со стороны лексикологов, фразеологов, психолингвистов и текстологов, культурная коннотация языковых единиц остается почти сказочной и все еще не пойманной «жар-птицей», озаряющей невидимые грани этнокультурной семантики не только слова, но и текста – художественного и научного.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу