♦ литература, не признанная официально и в свое время в СССР не печатавшаяся – А. Ахматова, М. Булгаков, А. Платонов и др.;
♦ русская советская литература (по преимуществу социалистического реализма) – М. Горький, В. Маяковский, М. Шолохов и др.
Пострадали все: литература русского зарубежья утратила связь с родной почвой, потеряла читателя; литература так называемой внутренней эмиграции подверглась преследованиям и запретам; литература социалистического реализма, отгородившись железным занавесом от мирового литературного процесса, попыталась установить свои особые «правила игры», но в конечном счете потерпела неудачу.
Главный же удар по художественной литературе как виду искусства в Советской России был нанесен в 20-е годы идеологическим решением, выполнение которого строго контролировалось цензурой: «Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного-единого великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса» [2]. Таким общим делом тогда было объявлено строительство социализма. Следовало догнать и перегнать капиталистические страны, и литературе предложили, по выражению В. Маяковского, «занять свое место в рабочем строю».
Подобное решение имело тяжелые последствия, анализ которых должен стать предметом специального исследования. Скажем здесь только о том, что таким образом писатель лишался внутренней свободы, без которой деятельность в искусстве невозможна. Многовековой опыт развития мирового искусства и литературы игнорировался; основным критерием оценки художественного произведения становилось его соответствие указаниям партии и правительства. С начала 30-х годов литература стала на глазах терять свою привлекательность. Сужались ее тематические рамки: эпохе строительства социализма в первую очередь были нужны книги о трудовых подвигах, о прошлых и будущих военных успехах, о внутренней и внешней политике и т. д., и т. п. Уходили на второй план и исчезали лирико-романтические, фантастические, сатирические произведения. На глазах обеднел язык. Талантливые книги, не нашедшие себе места «в рабочем строю», независимо от времени их создания безжалостно изымались из употребления. Были запрещены Ф. Достоевский и Н. Лесков, С. Есенин и А. Ахматова, М. Булгаков и А. Платонов – сей скорбный перечень можно продолжать и продолжать.
Все это сказалось и на положении литературы в учебных заведениях. Труды В. Я. Стоюнина, В. И. Водовозова, М. А. Рыбниковой и многих других методистов к тому времени создали серьезную научную базу для изучения литературы и подготовки читателя. Уже в 20-е годы от их наследия пришлось отказаться, так как они противоречили инструкциям Наркомпроса. Советский ребенок должен был знать, что в поэме Н. Гоголя «Мертвые души» обличается, царская Россия, крепостное право и т. п., но «Выбранные места из переписки с друзьями» ему были совершенно не нужны. Пушкинскую «Капитанскую дочку», не обращая внимания на эпиграф, школьнику представляли исключительно как произведение о восстании Пугачева, который оказывался главным героем произведения. Подобной обработке подвергались все книги, входившие в школьную программу, после чего оказывались практически снятыми нравственно-эстетические проблемы произведения. Читать его было необязательно, достаточно запомнить несколько строчек из учебника. Все это отнюдь не противоречило той программе ликвидации безграмотности, которая развернулась в стране в 20—30-е годы. Руководители страны понимали, что догнать капиталистические государства и построить социализм в стране, где население в массе своей било неграмотным, невозможно. Сразу после окончания Гражданской войны была развернута кампания по ликвидации безграмотности – создавались специальные школы для взрослых, заработали так называемые ликбезы. И в 1936 году, когда было объявлено, что социализм у нас в основном построен, все узнали, что и неграмотных в стране больше нет. Мысль о том, что можно научиться складывать из букв слова, из слов предложения и оставаться при этом человеком невежественным и безнравственным, как-то не возникала.
Таким образом, с подготовкой читающих что в школах, что в ликбезах дело обстояло более или менее благополучно. С читателями же была настоящая катастрофа. В двадцатом веке несколько поколений выросли под мощным идеологическим прессом. С помощью постановлений, государственных премий, орденов, арестов, судебных процессов, высылки из страны, сервильной литературной критики и т. п. им внушались превратные представления о том, что такое художественная литература и каково ее место в духовной жизни человека. Читатель был постоянно вынужден оставаться в строго очерченных рамках истолкования текста, который в этом случае переставал быть целостным художественным произведением и оборачивался в своих частях пособием по истории, по обществоведению, по психологии и т. п. При этом навыки реципиента, человека, воспринимающего искусство, оставались невостребованными. Свою роль сыграла школа, где книги перестали читать, – их учились «проходить».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
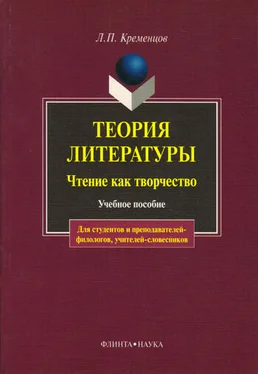
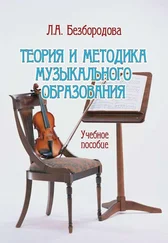

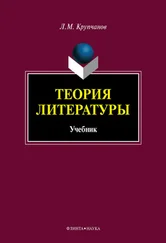
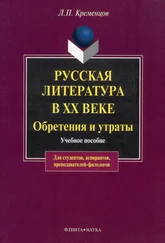



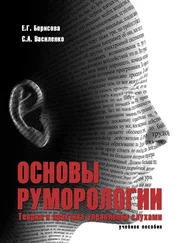
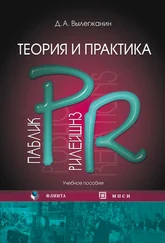


![Андрей Романов - Теория и психология рекламной деятельности [учебное пособие]](/books/398226/andrej-romanov-teoriya-i-psihologiya-reklamnoj-deyate-thumb.webp)