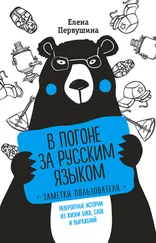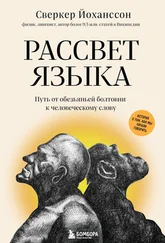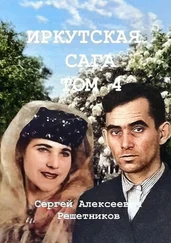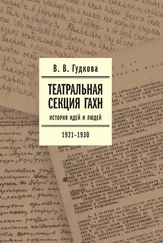Эти последние отношения, возникающие благодаря идеологии, делают возможной специфическую форму ее эстетической переработки — драматизацию. Ее теорию создал предполагаемый соавтор (или, как считают некоторые, просто автор) книг В. Н. Волошинова М. М. Бахтин, в своей собственной книге о Достоевском. Персонажей романа или сократического диалога он называет «героями-идеологами», которые обладают самосознанием и превращают свою «идею» в программу жизни:
Герой идеолог, ищущий правду, последнюю позицию в мире, но не для того, чтобы написать статью и философскую поэму (хотя они это и делают), а для того, чтобы жить [27] Бахтин М. М. Дополнения и изменения ко второму изданию книги о Достоевском // Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 6. М.: Русские словари — Языки славянской культуры, 2002. С. 309. Термин «драматизация» с оговорками применим к концепции Бахтина, который, как известно, считал драму жанром непригодным для диалогической разработки слова; тем не менее он сам применял слово «драма», в более широком трансгенерическом смысле, для характеристики диалогического процесса в романе — например, внутренняя речь героев Достоевского, пишет он, «развертывается как философская драма, где действующими лицами являются воплощенные, жизненно осуществленные точки зрения на жизнь и на мир» ( Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского [1963] // Там же. С. 266).
…
Такая «жизненная» идея [28] В книге о Достоевском слово «жизненный» непосредственно сопрягается с понятием «идеологии», напоминая о «жизненной идеологии» в «Марксизме и философии языка» Волошинова: «Каждое лицо входит […] как символ некоторой жизненной установки и идеологической позиции, как символ определенного жизненного решения тех самых идеологических вопросов, которые его [героя. — С.З.] мучат» (Там же. С. 265–266).
, наполненная личной ответственностью осуществляющего ее сознательного субъекта, противоположна безлично-социологической «системной» трактовке идеологии и скорее предвосхищает ее «действенное» и «силовое» определение у Альтюссера; соответственно, Бахтин регулярно пользуется понятием «идея-сила» [29] См. там же, по предметному указателю.
. Оно сохраняет связь с понятием ложного сознания, поскольку речь идет о «жизненных идеях» отдельного человека, состоятельность которых проблематична, их проверка, а часто и опровержение как раз и образуют сюжет идеологических романов Достоевского. Темпоральность такой проверки — диалектика, перемена позиций, перебивка точек зрения, резкие перевороты ситуации, и в принципе этот процесс может продолжаться сколь угодно долго.
Третья форма ложного сознания — симулякры — обычно связывается с именем Жана Бодрийяра, который ввел этот термин в общественную мысль 1970-х годов. Он сам отграничил эту форму от предыдущей — идеологии:
Идеология соответствует лишь извращению реальности знаками, а симуляция — короткому замыканию реальности и ее удвоению знаками. Задачей идеологического анализа всегда является восстановить объективный процесс, а доискиваться до истины, скрывающейся под симулякром, — всегда ложная задача [30] Baudrillard J. Simulacres et simulation. P.: Galitée, 1981. P. 48.
.
Симулякр — факт не просто ложного, а нереференциального или автореференциального сознания; за ним уже бессмысленно искать истину, он не «ложно отражает» реальность, а сам производит ее с помощью семиотических механизмов кода и серии. Нереальность симулякров тем более парадоксальна, что они функционируют не в сфере абстрактных идей, по природе своей отделенных от вещей, а в области социальных институтов и даже природного мира, чья реальность, казалось бы, не вызывает сомнений. В современном информационном обществе призрачный статус симулякров приобретают такие традиционно «реальные» факты, как Природа (в экологических имитациях), История (в музейных реконструкциях), Политика (в безлично-статистических механизмах голосования и рейтинга) и т. д.: ныне, согласно Бодрийяру, они существуют уже не как реальности, а как условные модели, по которым серийным способом производятся псевдореальные факты:
У фактов больше нет своей собственной траектории, они рождаются на пересечении моделей, один факт может быть порожден всеми моделями сразу [31] Ibid. P. 32.
.
Интересно сравнить бодрийяровские симулякры с «мифами», которые описывал в «Мифологиях» Ролан Барт. Бартовская семиотика ложного сознания послужила основой, на которой десятилетием позднее начал строить свои социологические теории Бодрийяр. Однако «мифы» по Барту — это очень смутные и (намеренно) дурно определенные понятия, так что аналитик даже вынужден обозначать их условными и неуклюжими терминами-неологизмами, чтобы отличить от понятий референциально адекватных: скажем, не «правительство» (термин социологически точный, описывающий реальную инстанцию власти), а «правительственность» (термин «мифический», вбирающий в себя все смутные, даже противоречивые коннотации, которые связываются с государственной властью в массовом сознании). Мифы — это факт идеологии, искажения реально существующих вещей и точных понятий о них; симулякры же, во-первых, существуют не рядом с реальностью, а вместо нее, а во-вторых, не страдают смутностью — напротив, они носят строго системный характер, упорядочены законами серийной игры, просто эта система и эта игра не «отражают», а действительно регулируют процессы современного общества.
Читать дальше