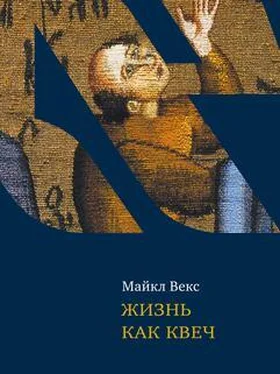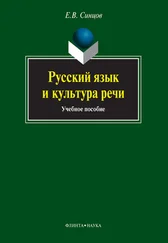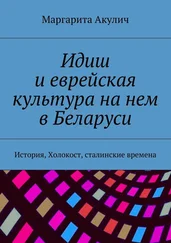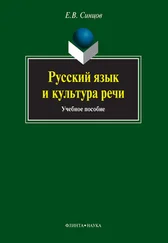Здесь перед нами игра слов: если кто-то махт хасене человека или предмет, он тем самым делает его кале в обоих смыслах. Мало того, калес (множественное число от кале -«невеста») совпадает с множественным числом женского рода прилагательного кал , «легкий» (мы встречали его в словосочетании кал ва-хоймер , «тем более»). Согласно словарю А.Гаркави, кал — «loose fellow» , «человек свободных нравов». Соответственно кале — «барышня свободных нравов». Отсюда слегка двусмысленная пословица «але мейдлех зенен калес» : на первый взгляд кажется, что она означает просто «все девушки — [потенциальные] невесты», а если копнуть поглубже, окажется, что все они — «пустоголовые особы легкого поведения». Когда-то я столкнулся с клезмер-бэндом «Ди Калес», состоявшим из одних девушек; они-то думали, что назвались «Невестами», но оказались достаточно продвинутыми, чтобы порадоваться, узнав, что их юные идишеязычные фанаты приходят послушать именно «Глупых шлюшек».
Если кто-то возмущается: «Я не могу танцн аф цвей хасенес (мит эйн пор фис) », «танцевать на двух свадьбах (одной парой ног)» — это значит «не могу же я делать два дела сразу» или «быть в двух местах одновременно». Еще есть выражение танцн аф фремде хасенес , дословно — «танцевать на чужих свадьбах». Речь идет не о плясуне, а о том, кто распинается перед посторонними людьми, забывая о близких: « Аф фремде хасенес танцт эр , а к родному сыну на утренник прийти — на это у него времени нет!»
Супружеская пара называется зивег , от ивритского зивуг — «слияние», «спаривание». Можно говорить о своем собственном зивег , но обычно это слово используют, говоря (в очень официальном или высокопарном тоне) о чьем-то муже или чьей-то жене. Дос из майн зивег — «Это мой супруг/моя супруга». Если бы существовал политкорректный идиш, то слово зивег взяли бы на вооружение люди, которые вместо «муж» или «жена» говорят «партнер». В отличие от хосн-кале («жених и невеста») или ман ун вайб («муж и жена»), это слово подошло бы и для однополых браков.
Зивег ришон и зивег шейни — соответственно первый и второй брак, а зивег мин-а-шомаим — «брак, заключенный на небесах». Можно, доводя до абсолюта идею неразлучности, представить себе дибук мин-а-шомаим , «дарованного свыше дибука »; несчастливый брак все-таки можно расторгнуть — на то есть гет , «развод», — а вот от дибука так просто не избавишься.
О счастливом браке говорят, что он ойле йофе — «успешный, благополучный». Но идиш есть идиш: это выражение очень часто используется с ироническим оттенком. Например, деловое партнерство привело к тому, что оба вылетели в трубу; рассказывая эту историю, еврей не преминет заметить: « дер зивег ѓот ойле йофе гевен („союз был удачным“): через полгода они обанкротились». Есть сходная по смыслу поговорка — цвей мейсим геен танцн , «два трупа идут плясать»: так говорят, когда два неудачника затевают совместное дело. Если вы, не найдя себе пару для студенческого бала, просидели весь вечер в «Макдональдсе» с соседом по общаге, таким же неприкаянным, — это как раз тот случай, когда цвей мейсим геен танцн . Мертвяк и мертвяк танцуют медляк.
Выше мы говорили о мицвах, которые получает женщина, выйдя замуж. Для мужчины, вступившего в брак, главным видимым нововведением становится талес , молитвенная шаль. Именно талес издавна считался знаком принадлежности к еврейству: вопрос «вифл талейсим зенен до бай айх?» («сколько у вас тут талесов?») означает «сколько семей в вашей общине?». Большинство ортодоксальных иудеев, а также евреи из восточноевропейских общин надевают талес только после свадьбы. Неженатые мужчины надевают его только тогда, когда выходят читать Тору или вести молитву; можете себе представить, какое клеймо позора ложится на человека, если он уже достиг зрелых лет, а все еще не носит молитвенную шаль. Все знают, что холостяк не имеет прочного общественного положения; в миньян его принимают, но он — не менч .
Существует несколько объяснений традиции носить талес . Первое изложено в Талмуде (Кидушин 29б): один рабби спрашивает другого, почему он не покрывает голову шалью — согласно Раши, так одевались женатые евреи того времени. Рабби отвечает, что он не женат. Все толкователи под «шалью» понимают «молитвенную шаль» и, следовательно, трактуют вопрос как «Почему ты не покрываешь голову талесом ?». Талмудист XV века Маѓарил, чрезвычайно значимая фигура в ашкеназском иудаизме, отмечает, что после заповеди «Кисти сделай себе на четырех углах твоего облачения» сразу же следует стих «Если возьмет муж жену…» (Втор. 22:12–13); толкователь полагает, что соседство этих фраз неслучайно: кисточки на покрывале связаны со вступлением в брак.
Читать дальше