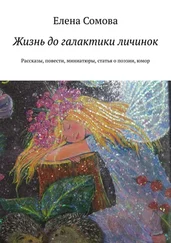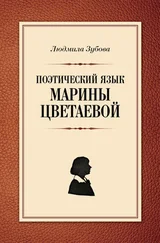Натр уженный, как гр узовик,
ск улящий, как больная с ука,
лишен грамматики язык,
где зв ук не отличим от зв ука.
Д урак, ор ущий за верст у,
болт ун, уведший вас в сторонк у,
все произносят п устот у,
слова сливаются в воронку
(«Стансы»
[39] Лосев, 2000-б: 70.
);
Вымерли гунны, латиняне, тюрки.
В Риме руины. В Нью-Йорке окурки.
Бродский себе на уме.
Как не повымереть. Кто не повымер,
«Умер» зудит, обезумев, как «immer»,
в долгой зевоте jamais.
(«Памяти Литвы. Вальс»
[40] Там же: 27.
);
«Теперь в гостиницу скорей», —
подвзвизгнулАппетит.
Еще с порога из дверей
он видит — стол накрыт.
(«Тайный советник /по Соловьеву/)»
[41] Лосев, 2000-б: 158.
);
Как удлинился мой мир,Верм еер,
я в Оостенде жр аал уустриц [42] Слова Остенде и устрица имеют общий корень ост- со значением ‘восток’.
,
видел прелестниц твоих, вернее,
чтения писем твоих искусниц.
<���…>
В зале твоем я застрял, Вермеер,
как бы баркас, проходящий шлюзы.
Мастер спокойный, упрятавший время
в имя свое, словно в складки блузы.
(«Путешествие»
[43] Лосев, 1999-а: 34.
)
Все примеры чувственного отношения к языковым единицам и к их свойствам показывают, что у Лосева эмоциональное восприятие языка постоянно сопровождается восприятием аналитическим. Но наиболее отчетливо и последовательно логический аспект проявляется в поэтике этимологических связей. Так, например, этимология и эмоция звучания объединены в авторском восприятии имени Вермеер : в тексте оно фигурирует не только как слово с удлиненным гласным, но и как родственное слову время: упрятавший время / в имя свое (этимологически время — *vertmen ‘вертящееся’). Примеров этимологических связей, порождающих текст, у Лосева много, при этом Лосев часто восстанавливает забытую общность слов. Например, следующий фрагмент из стихотворения «Нелетная погода» указывает на генетическое родство слов с корнем жар-:
Коза молчит и думает свое,
и взглядом, пожелтелым от люцерны,
она низводит наземь воронье,
освобождая небеса от скверны,
и тут же превращает птичью рать
в немытых пэтэушников команду.
Их тянет на пожарище пожрать,
пожаритьдевок, потравить баланду.
(«Нелетная погода»
[44] Там же: 12.
)
Вульгаризм пожрать исторически связан с образом сжигания как уничтожения. Слово потравить в этом тексте (глагол, обычно употребляемый, когда речь идет о животных или о птицах, пожирающих посевы) тоже обозначает уничтожение, но при этом взаимодействует с фразеологически связанным значением в выражении травить баланду — ‘болтать пустяки, говорить глупости, врать’. В контексте про то, как козы превращают птичью рать в пэтэушников, сочетание потравить баланду реализует и прямой, и переносный смыслы каждого из слов (в тюремном жаргоне баланда — это ‘жидкий суп, похлебка’).
Этимологическая игра со словом жрать имеется и в строках из стихотворения «Классическое»:
Полыхает в камине полено,
и тихонько туда и сюда
колыхаются два гобелена.
И на левом — картина труда:
жнут жнецы и ваятель ваяет,
жрут жрецы,Танька Ваньку валяет.
(«Классическое»
[45] Лосев, 1999-а: 34.
)
После этимологического повтора полыхает полено , тавтологических сочетаний — жнут жнецы, ваятель ваяет и слова жрут жрецы тоже по инерции сначала воспринимаются как тавтология, затем как каламбур, но на самом деле оказывается, что именно тавтологическим такое сочетание и является. Корень жр- с его вариантами жар-, жер- фонетически произволен от корня гор-, представленного в своем первоначальном виде словами гореть, горе. И, в соответствии с этимологией слова, жрец — ‘тот, кто сжигает жертву’ (у слова жертва тот же корень).
Лосев обращает внимание читателя на то, что забвение этимологии слов порождает языковые парадоксы:
В белом кафе на пляже идет гудьба.
Мальчик громит марсиан в упоении грозном.
Вилкой по водке писано:ЖИЗНЬ И СУДЬБА —
пишет в углу подвыпивший мелкий Гроссман.
Читать дальше



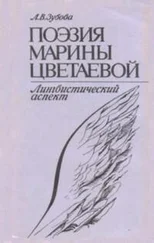

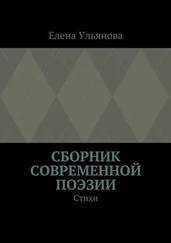


![Людмила Зубова - Грамматические вольности современной поэзии, 1950-2020 [калибрятина]](/books/435808/lyudmila-zubova-grammaticheskie-volnosti-sovremennoj-poezii-1950-2020-kalibryatina-thumb.webp)