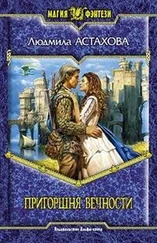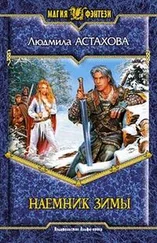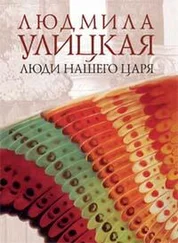Возможно ли в таком случае принять то простое решение, что, мол, только обычное и известное ивановское нежелание прямо высказываться по «последним» догматическим вопросам лежало в основе его неупоминания имяславия, к которому он тем не менее склонялся? Ведь именно этот период в творчестве Иванова часто называли (достаточно вспомнить Н. А. Бердяева или А. Белого) догматическим, и многое из состава идей и понятий того же Флоренского или Эрна действительно безболезненно, как в позитивной, так и в негативной оценке, появлялось в ивановских текстах этого периода. Следует, видимо, искать другие причины молчания Иванова по поводу прямых имяславских тем.
Прежде чем приступить, однако, к подробному обсуждению этой и связанных с ней других проблем, оговорим, что всё сказанное ниже будет иметь отношение только к сугубо интеллектуальным концептам, усматриваемым в рамках ивановского символизма и имяславия – вне всякой связи с вопросом о возможности реального воплощения всех рассматриваемых идей на практике.
1. Между именем и метафорой (историко-сопоставительный аспект)
Самое насыщенное и перспективное для интерпретации, хотя – как и всегда – брошенное вскользь, упоминание имяславия содержится в статье 1922 года «О новейших теоретических исканиях в области поэтического слова». В начале статьи Иванов разбирает работу А. Белого «Жезл Ааронов – о слове в поэзии», оспаривая предложенные Белым критерии противопоставления пушкинской и тютчевской поэтических манер. В творчестве Тютчева, согласно ивановской интерпретации мысли Белого, «подсознательное, ночное, хаотически стихийное» расцветает метафорой, а мысль – дневная, ясная сторона сознания – не находит средств для адекватного поэтического воплощения и остается отвлеченной. Пушкинский же «солнечный логизм», по мысли Белого, проникает в сущность вещей и непосредственно воплощается в адекватном звуке слова, чуждаясь метафоры, но дробясь и играя «в хрустальных гранях метонимии». [4] Описывая далее свое, заявленное как в принципе отличное от предложенного Белым, понимание разницы пушкинской и тютчевской манер, Иванов среди прочего говорит, что Пушкин, «потому, что своей самодеятельной мысли в отличие от уже изреченной в космосе как бы вовсе не имел», ограничивался тем, что в таком случае остается: только именовать вещи и их отношения, а с ними и их вечные, напечатленные на них платоновские идеи. И вот интересующее нас место: «Пушкин – бессознательно платоник в своем взгляде на мир; и Пушкин – «имяславец» (выделено мною. – Л. Г.). Его имена (и косвенно его переименования, метонимии) суть живые энергии самих идей» (4, 636).
Максимально симптоматичное место. К 1922 году открытые и острые имяславские споры по многим причинам уже сходили на нет; во всяком случае к тому моменту уже прошло достаточно времени, чтобы определиться. И хотя Иванов и здесь, как всегда, осторожен и отрешен от соотносительных иерархических оценок, он тем не менее достаточно и как бы «финально» определенен: если Пушкин – имяславец, то противопоставляемый ему здесь же Тютчев (константный в ивановских текстах своего рода «символ символизма»), соответственно, не имяславец. Следовательно, и само имяславие здесь в каком-то смысле противопоставляется символизму.
Смысл этого противопоставления пока не ясен; контекст, в котором использовано слово «имяславие», не только не намекает на какое-либо иерархическое (по сравнению с символизмом) снижение пушкинского солнечного логизма в силу его «имяславия», но максимально подчеркивает своей платонической «терминологией» высоту и беспрекословность этой силы, да и имя Пушкина само по себе отторгает какое-либо умаление при любых сравнениях. И все же далее у Иванова зазвучит и противопоставляемая им этой «беспрекословной силе» идея, как бы ограничивающая поле действия солнечного логизма, а соответственно, и платонизирующего имяславия: «Пушкин метко схватывает сущности и право их именует, они же сами непосредственно являют, в ответ на правое их именование, свою связь и смысл – до некой заповедной черты, где именование прекращается (выделено мною. – Л. Г.), потому что за нею область немоты, где сущности говорят уже не живым, а «мертвым языком о тайнах вечности и гроба»» (4, 637). Здесь намечена возможная «точка несогласия» Иванова с имяславием: да, именование – действенная сила, и ему подлежат даже сущности и идеи, но оно не всеохватно: имеется некая межа, после которой «именование прекращается» и, надо понимать, начинается что-то в языковом отношении иное.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу