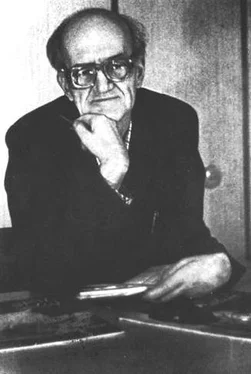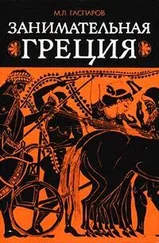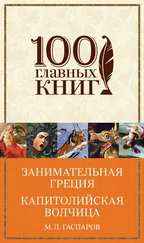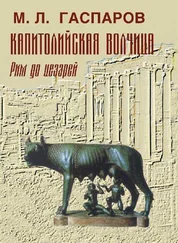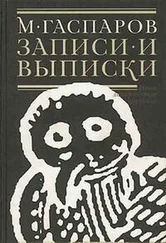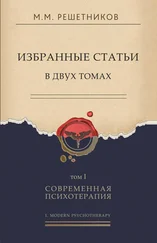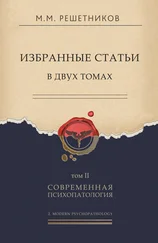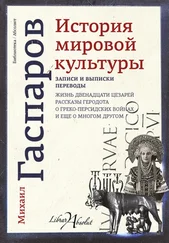Современному читателю эти славословия претят. Когда Овидий без конца называет Августа богом (ни у Вергилия, ни у Горация это еще не вошло в столь прочную привычку), когда он простирается перед ним с молитвой (С. V, 2), когда он исходит умилением перед медальоном с лицами Августа, Ливии и Тиберия (П. II, 8), когда он спешит воспеть триумф над Германией, не зная, что сам Август его отменил (С. IV, 2), когда он, дождавшись, наконец, заочно воспевает триумф над Паннонией — шествие победителей, ликование народа, ожидание еще более громких побед (целый цикл стихотворений 12–13 гг.: П. II, 1, 2, 5, III, 3, 4), — в устах поэта-изгнанника это кажется вопиющей неискренностью. Это не так. Здесь нет неискренности — есть лишь осознанная условность. Заключается она в том, что имя «Август» для Овидия — такой же условный символ всей римской современности, как слово «смерть» — символ одиночества, а слова «лед» и «яд» — символы невзгод изгнания. Разницу между символическим Августом, Августом-богом, и реальным Августом, Августом-человеком, Овидий хорошо помнит и иногда даже подчеркивает ее: наказан он был Августом-человеком, способным ошибаться, как всякий человек (вряд ли он даже прочитал внимательно «Науку любви», этот состав Овидиева преступления, — С. II, 31–32; вряд ли он даже представляет себе, что такое Томы, этот край Овидиева наказания, — П. I, 2, 71–72), а помилования ждет от Августа-бога, милосердного, как истинный бог. Но условность эта принята Овидием искренне. Он убедился, что те правила игры, которым он следовал смолоду, не удовлетворяют партнера, — и он перешел на новые правила игры. Выходить из этой игры (как вышел бы философ) Овидий не хочет, потому что понимает, что игра идет высокая — борьба культуры против варварства, и в этой борьбе он с Августом заодно, что бы ни думал по этому поводу Август. А что играть без правил нельзя, что вся жизнь человека в обществе — это игра, он знает еще с тех лет, когда все свои «Любовные элегии» и «Науку любви» он написал, по существу, именно о том, как даже в любви человек думает «да», а говорит «нет», и наоборот.
Вот почему Овидий так упорствует в своем парадоксе: чем безоговорочнее он признает свое преступление, тем больше его уверенность в Августовом милосердии. Что Август сам давно вышел из игры и следит за его стараниями равнодушно и со стороны, этого он не мог и не хотел себе представить.
10
Наконец, четвертая из главных овидиевских тем — это поэзия. Она тоже предстает перед читателем в парадоксе, и даже в тройном. Стихи погубили поэта, однако не погибли с ним в изгнании — Овидий страдает в Томах, а стихи его (сообщают ему римские друзья) исполняются в людных театрах и имеют успех (С. V, 7). Стихи погубили поэта, однако они же и спасут его — он умрет, а они останутся в веках и сохранят ^го имя для дальних потомков. Стихи погубили поэта, однако они уже спасают его — слагая их, он забывает о своих страданиях и упражняет свой слабеющий дух. «Так спутники Улисса погибали от лотоса, но не переставали наслаждаться им, так влюбленный держится за спою любовь, хоть и знает, что она его губит» (С. IV, 1, 31–34).
Контраст между смертностью поэта и бессмертием его стихов древнейшая тема поэзии; в античной лирике с самых давних времен у поэтов было в обычае упоминать в стихах свое имя, чтобы сохранит! его навек. Гораций закончил свой сборник од знаменитыми стихами про памятник «вечнее меди», и Овидий почти дословно повторил их в заключении своих «Метаморфоз». Но в понтийских стихотворениях Овидия эта тема получила новую, еще не испробованную разработку. Мысль о том, что поэт и стихи его — совсем не одно и то же, была для Овидия одним из оправданий в его защите перед Августом: «стихи мои могли быть легкомысленны, но жизнь моя была чиста» (С. II, 345–360; впервые в римской поэзии это оправдание появляется еще у Катулла). Поэтому для Овидия становится особенно важно разделить в себе человека и поэта — как бы два лица, для которых поэзия имеет совсем разное значение.
Собственно, именно этому посвящена одна из самых известных «Скорбных элегий» Овидия (С. IV, 10) — автобиографическое заключение четырех книг этого цикла (которыми, по-видимому, поэт сперва хотел и ограничиться). Здесь нет ничего похожего на традиционный образ вдохновенного поэта, который велик (а иногда смешон) оттого, что его устами говорит не он, а обуявшая его божественная сила. Творчество здесь изображено не как высокое и мучительное служение, а как приятное, добровольно избранное занятие: Овидий пишет не потому, что боги велели ему о чем-то поведать миру, а просто потому, что это ему доставляет удовольствие. Так было в Риме, так продолжается и в ссылке: «обманываю время, коротаю день» (ст. 114). Тем самым поэт отказывается и от притязаний на славу: награда ему — сам процесс труда, а не результат труда. Если же слава все-таки приходит к нему, то лишь как нечаянный подарок судьбы; и если за радость творчества он благодарит Музу, то за славу творца благодарит читателя.
Читать дальше