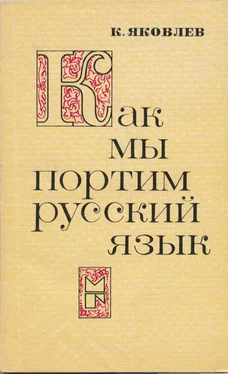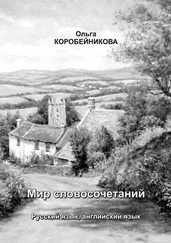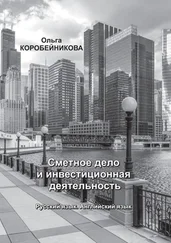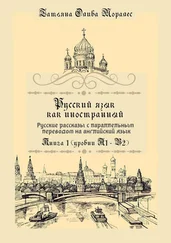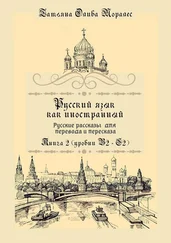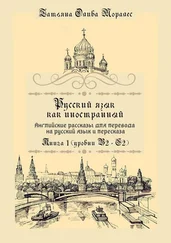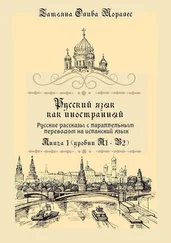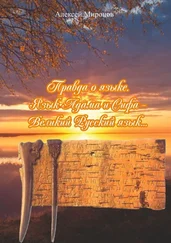Молодой сочинитель, кажется, чувствует однообразность своих языковых средств. Он вводит слова и других «слоёв»: ваньку валять, засёк, к кассе переться, на реку ладили, ковыряй отсюда пятками, не выгорело дело, не блеск, джинсы оторвал, нервы на взводе, вы сегодня в ударе, цех горячку порол, вредина, в домино подолбать, сбои с курса, жми (иди), кореш, форс давишь, лыбишься, в гробу я видел, дембиль (демобилизация), покеда, пацанва, по модерну, побрякать (позвонить по телефону), киса, полированности (мебель), братья–кролики, пан директор, пан мастер, президент (председатель), лапоть (деревенский парень) и т. д. Но и это «разнообразие» оборачивается утомительным, надоедливым однообразием, идущим от желания поострить во что бы то ни стало, и безнародностью и безобразностью языка.
Нет, автор не высмеивает худосочие современной речи. Во всём подражая моде 10–15–летней давности (в основном — в её «яксеновском» ииде), он обнаруживает собственную худосочную речь, не имеющую ничего общего с языком художественным.
Столь же мало художественности в произведениях (тоже — вторичных, подражательных), исполненных «телеграфно–информационным» стилем, хоть и бесхитростно, в отличие от предыдущей повести:
«Лежу на траве, отдыхаю и греюсь. Толя наверху. А здесь почти нет ветра. Смотрю, как резвятся облака. Принимают разные очертания, кувыркаются. Они похожи на маленьких белых медвежат. Наступает вечер. Мы собираем чернику. На сопках чёрные джунгли. Запускаю совок с густыми зубьями в черничник. Ведро наполняется за десять минут. Глебов уходит сразу, прихватив инструмент. Идем с Толей вдвоем…»
Или:
«Мама увидела самолёт и наконец поняла, что все на самом деле. Ил-18 похож на птицу, а маме кажется, что это хищник, который собирается меня проглотить»;
«Я обнимаю её и тоже плачу, но это внутри. Снаружи я улыбаюсь. Мама почему–то маленькая и беспомощная. Меня захватывает неудержимая волна нежности. Я глажу маму и последний раз целую бледную щеку, солёную от слез»;
«Сегодня я бездельничаю, хожу по городу. Совсем не холодно, всего минус двадцать пять по Цельсию. Город уютный. Дома–коробочки, дома с колоннами. Больше коробочек. Иду к берегу моря. Лед вздыбился. Это от ледоколов. Вокруг ледяной свет, звон, блеск. Ощущение неправдоподобности. Иду к телевышке…»
Трудно, невозможно увидеть в таких описаниях особую, северную природу или далёкий, тоже особый, наверное, город. «Уютный», «дома–коробочки, дома с колоннами» — не особенность ведь! И ни мысли, ни чувства, ни того самого «человековедения», которое составляло всегда главный предмет литературы. Вместо этого — что–то напускное, какое–то непонятное притворство, поза: «Плачу, но это изнутри. Снаружи я улыбаюсь», «Совсем не холодно, всего минус двадцать пять».
И язык соответствует этой неоткровенной, безмысленной и бесчувственной скорописи, которая — словно плохой дневник: наспех набросаны в нём приметы событий, картин «на потом», для себя, чтоб когда–то на досуге попытаться вспомнить по ним сами события, сами картины, людей.
Видимо, не вспомнились они, так и остались неглубокими, туманными и неинтересными памятками для себя.
Таким путём написано уже множество рассказов и повестей (иные так и называются: «повесть в дневниках», «повесть в письмах» или «письма» такого–то) — произведений, не запавших в сердце читателя ни единым из жизни живой взятым народным словечком. В них не видно и родины автора — тех мест, которые давали бы силу авторскому языку и толкали к сравнениям характеров, даже природы (коль обращается он к «экзотике», пусть хоть её показал бы!).
Бывает, пишущий словно нарочно так «растворится» во вселенности, подумаешь — сочинял за него житель другой планеты, глядя на Землю со стороны. Один герой у него: «Лицо смуглое, как у креола, нос с кавказской горбинкой». Другой: «Спит… голубоглазый, с лицом сфинкса, эрудит». Третий: «Смуглое, как у мулата, лицо». Четвертый — «углемазутовый мавр»… У него духота — «словно узаконенная нагрузка к вагонному сервису… единая чаша причастия». У него скопление каменных столбов «походит на исполинский кафедральный орган, на котором музицирует ветер» (и рядом — «готические шпили гранитных столбов»). Он порой в «самом себе» делает «любопытные открытия, целый оазис человеческих драгоценностей».
Кстати, в этих примерах видна и мода на церковную лексику. Перечень её можно было бы продолжить. Тут и «река — словно пояс богоматери», и «деревья как будто прозревают что–то горнее, неземное», и у соловьев… «как у архангелов крылья–то были»… Чего только нет! Все познания обо всём мире, всю мировую культуру пытаются выплеснуть на страницу при описании обыкновенного пруда, не то что гранитных столбов. Лишь самого пруда тут не увидишь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу