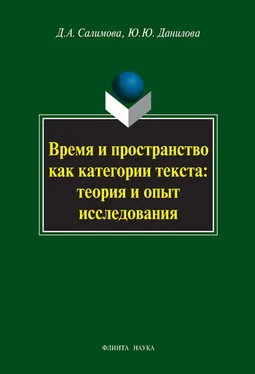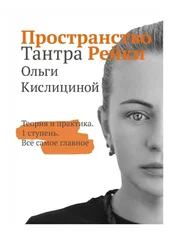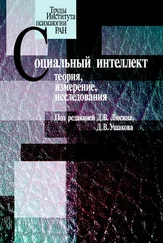Исследованием природы пространства занимался также еще один известный древнегреческий философ – Аристотель, согласно которому пространство: 1) есть не передвигающийся сосуд;
2) оно имеет верх, низ, левую и правую стороны; 3) имеет количественную определенность; 4) не совпадает с границами тел, а объемлет их всех [Аксенов: www.chronos.msu.ru].
Таким образом, понятие пространства в античной философской науке еще не было абстрагировано от мира и от вещей. В этом плане, на наш взгляд, показателен тот факт, что в древнегреческом языке отсутствовало отдельное, самостоятельное слово для пространства. Но идея, близкая к пространству, выражалась другими словами: «пустотой» и «воздухом» у атомистов; «миром» (космосом, с его идеей устроенности и гармонии) и «землей» в космологии Платона; «местом» и вопросом «где?» в философии Аристотеля.
В эпоху Средневековья, как уже отмечали, предметом пристального внимания философов стали попытки определить природу и сущность времени. Поэтому в Средние века концепция пространства оставалась неизменной.
Развитие естественных наук приводит к появлению собственно научных концепций пространства. Так, в Новое время ученые уже знакомы с понятием абстрактного пространства, абстрагированного от вещей, гомогенного, не имеющего границ. Это пространство нередко отождествляется с «дурной» бесконечностью. Именно в это время возникает достаточно большое количество философских определений и интерпретаций пространства, в них пространство осмысляется с самых разных позиций.
Пространство как атрибут мира определяется в философской системе Р. Декарта через протяженность: «Пространство, или внутренне место, также разнится от тела, заключенного в этом пространстве, лишь в нашем мышлении. И действительно, протяжение в длину, ширину и глубину, образующее пространство, образует и тело. Разница между ними только в том, что телу мы приписываем определенную протяженность. Пространству же мы приписываем определенную протяженность столь общее и неопределенное, что оно сохраняется, если устранить из него тело» [Декарт 1989: 11].
В это же время встречается в системе научного знания и осмысление пространства с позиций эмпиризма (Дж. Локк): возвращение к старым идеям пустоты и отрицание пространства-протяженности.
В философии XVII-XVIII вв. складываются два типа пространства: абсолютное пространство И. Ньютона и относительное Г. Лейбница.
В концепции И. Ньютона пространство – первичная самодостаточная категория; оно понимается как бесконечная протяженность, вмещающая в себя всю материю, но не зависящая от нее, не определяемая материальными объектами. По существу, это пустота – но и вместилище одновременно. Этой концепции «пустого» пространства противостоит концепция «объектно-заполненного» пространства Г. Лейбница, который понимал пространство как нечто относительное, зависящее от находящихся в нем объектов, определяемое порядком существования вещей. В философии Лейбница части пространства, таким образом, определяются и различаются только с помощью имеющихся в нем вещей.
В целом, вопрос о специфике русской философии начала ХХ столетия сложен прежде всего потому, что в ней объединяются в одно целое весьма различные, порой противоположные друг другу идеи и концепции.
В 1909 году «Критику чистого разума» издали на русском языке в высокопрофессиональном переводе Н. Лосского, и идеи немецкого философа плотно соприкоснулись с культурой Серебряного века. Отметим, что наметился протест русских мыслителей начала века против классической философии, поскольку в ней возможности человеческого разума признавались ограниченными. В этой связи показательны слова О. Мандельштама, в творчестве которого принято выделять и символистский период: «Символисты были плохими домоседами, они любили путешествовать. Но им было плохо, не по себе в клети своего организма и в той мировой клети, которую с помощью своих категорий построил Кант» [цит. по: Панова 2000: 432]. Следовательно, пространство в этот период символистского искусства предполагает надчеловеческое, надмировое зрение.
Отметим, что в целом для поэтики символизма, теоретиками которой явились Вл. Соловьев, Вяч. Иванов, Д.С. Мережковский, К. Бальмонт, А. Белый, Н.А. Бердяев, В.В. Розанов и др., были характерны идеи Софии, синтеза всех начал, то есть «всеединства в жизни, в знании и творчестве». Так, например, К. Жаков, основоположник лимитизма, «философии предела», отмечает: «Но возможно ли единство всех категории мира (пространства, времени, материи – энергии, психики – воли, оценки логической, этической моральной)? <...> общее, из которого следуют, как караваны из одного пункта, в разные стороны категорий мира, все более интегрируя тенденции и соглашая в высшем гармоническом синтезе, разные итоги тенденций» [цит. по: Минералова 2006: 32]. В этом же направлении звучит тезис К. Бальмонта о тяготении всего в природе к синтетическому слиянию: «Мир полон соучастий. Природа – нерасторжимо всеединство. Звездные дороги Вселенной слагают одну поэму, жизнь есть многосложное слитное видение» [Там же: 34]. По мнению Вяч. Иванова, идея всеединства «предуготовляет современной душе углубленнейшие проникновения в таинства макрокосмоса», развивая далее мысль ««Небо» в нас, «Ты» в нас <...> Когда современная душа вновь обретет «Ты» в своем «я», <...> тогда она постигнет, что микрокосм и макрокосм тождественны.» [Там же: 37]. Следовательно, одной из ведущих особенностей русской философской мысли начала XX века явилась тема изначального и объективно данного единства космоса, природы, человека, Бога, что Вл. Соловьев называл «свободной теургией».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу