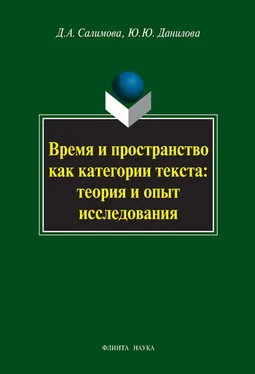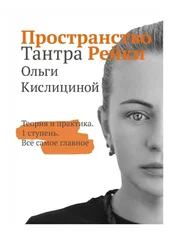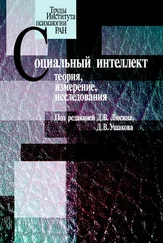Они на площади Сената
Тогда сошлися в первый раз.
Идут навстречу упованью,
К ступеням Зимнего Крыльца…
14 декабря, 1909, СПб.
Где-то милая? Далеко,
На совдепской на земле.
Милая
На Смольномновенькие банты
из алых заграничных лент <...>
Эр-Эс-Эф-ка– из адаманта,
победил пролетарский гнев!
Видение, январь 1920, Минск
Примечательно, что в образе поэта происходят в связи с известными историко-политическими событиями 1905-1917 годов и их последствий рачительные изменения. Глубоким осмыслением происходящего проникнуты стихотворения поэта этого периода, которому посвящены поэтические циклы З.Н. Гиппиус
«Война», «Революция», «Походные песни». Тональность гиппиусовских стихов принимает гражданский пафос, они проникнуты одновременно горечью и тоской за родную землю, за судьбы народа своего, и надеждой на ее «воскресение»:
Она не погибнет, – знайте!
Она не погибнет, Россия.
Они всколосятся, – верьте!
Поля ее золотые.
И мы не погибнем, – верьте!
Но что нам наше спасенье?
Россияспасется, – знайте!
И близко ее воскресенье.
Знайте!, декабрь 1918, СПб.
Война и революция, по Гиппиус, – не Божеское дело. Они воспринимаются как страшное событие, как смутное, полное неопределенности, непредсказуемости время, как трагическая стихия, несущая неизбежные потери, зло, насилие, бедствие, безумие, разрушение. Показательно в этом плане произведение «Сегодня на земле» (1916):
Есть та кое трудное,
Такое стыдное.
Почти невозможное –
Такое трудное:
Это поднять ресницы
И взглянуть в лицо матери,
У которой убили сына.
Это поистине народное, христианское авторское осмысление происходящего позволяет совершенно с другой стороны открыть З.Н. Гиппиус. В условиях данного исторического контекста происходит концептуальная трансформация образов дома, ро дины, земли, они приобретают традиционное мифопоэтическое наполнение:
День вечерен, тихи склоны,
Бледность, хрупкость в небесах,
И приземисты суслоны
На закошенных полях.
Ближний лес узорно вышит
Первой ниткой золотой <���…>
Чуть звенит по глади росной
Чья-то песня, чей-то крик...
Под горой, на двуколесной
Едет пьяненький мужик.
Над разлапистой сосною
Раскричалось воронье.
Всё мне близко. Всё родное.
Всё мне нужно. Всё мое.
Всё мое, октябрь 1913, СПб.
Это, братцы, война не военная,
Это, други, Господний наказ.
Наша родина, горькая, пленная,
Стонет, молит защиты у нас.
Тем зверьем, что зовутся «товарищи»,
Изничтожена наша земля.
Села наши– не села, пожарищи,
Опустели родные поля<���…>
Мы ль не слышим, что совестью велено?
Мы ль не двинемся все, как один,
Не покажем Бронштейну да Ленину,
Кто на русской землегосподин? <���…>
Слава всем, кто с душой неизменною
В помощь Родиненыне идут.
Это, други, война не военная,
Это Божий свершается суд.
Божий суд
Поэтическую пространственную географию можно также условно разделить на две группы – это пространство внутри России (Урал, Киев), запредельное пространство относительно России (Таормина, Сицилия, Бельгия, Ирландия, Англия, Канны, Корсика, Лондон, Финляндия, Бельгия, Монако). Здесь особенно значимыми становятся наблюдения Е.А. Гаврищук, которая в результате исследования и описания феномена петербургского текста Гиппиус отмечает, что «в рамках географического пространства имеет важное значение оппозиция свое («наше», «культурное», «безопасное», «гармонически организованное») - чужое («их-пространство», «чужое», «враждебное», «опасное», «хаотически организованное»)». Развивая мысль, далее исследователь пишет о том, что «в период революционных потрясений свое географическое, общественное пространство начинает осмысляться лирическим субъектом как попавшее во власть дьявола и потому как духовно чуждое, даже враждебное человеку – чужое, и напротив – чужое начинает оцениваться как близкое духовным устремлениям, свое» [Гаврищук 2004: 15]. В свою очередь заметим, что наряду с данной интерпретацией своего и чужого пространства, возможна и несколько другая: смысловая модификация обусловлена и тем фактом, что ранее свой и чужой являлись качественными показателями совершенно иной концептуальной парадигмы, т.е. в рамках поэтической космологии – умопостигаемых земного пространства и инобытия. Так, земное пространство мыслилось как пограничное, переходное для временного пребывания в нем лирического субъекта, поэтому понятие свое вообще отсутствовало как качественная его характеристика. Она появляется именно во время идеологического раскола общественного мнения в России начала XX столетия. У Гиппиус это подтверждается также наличием притяжательных местоимений моя, мой, своя и прилагательных родная, родимая, дорогая, милая и т.п.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу