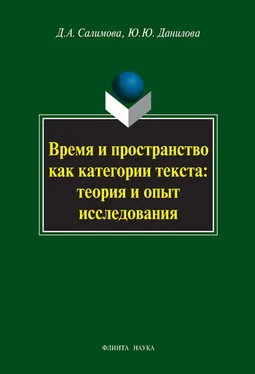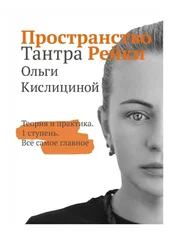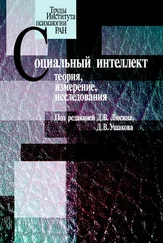Понятие времени пронизывает смысл многих цветаевских слов. Оно затрагивает практически все уровни языка: семантику, лексику, грамматику, проявляясь специфическим образом на каждом из них. Таким образом, комплексная, многоуровневая категория темпоральности, при освещении которой следует обращать внимание как на семантическую константу, так и на выявление формальных средств выражения темпоральных значений, их взаимосвязи, взаимодействие, в цветаевском тестовом поле становится одной из идиостилевых характеристик, превращается в одну из самых ярких текстовых категорий. Поэт то отрицает, уничтожает, то возвеличивает время (Господин мой Время), вступает с ним в диалог, то сужает до секунды, то расширяет его границы до бесконечности и вечности. Языку Цветаевой присущ и некий элемент пренебрежения временем, потому что автор и так все знает, что было и что будет:
Знаю все, что было, все, что будет,
Знаю всю глухонемную тайну,
Что на темном, на косноязычном
Языке людском зовется – Жизнь.
Или:
Час,а может быть – неделя
Плаванья (упрусь – так год!).
Час и неделя, год с легкостью перечислены как синонимы. Обращаясь к разливам лиственным, поэт восклицает:
Что в вашем веянье?
Но знаю – лечите
Обиду времени
Прохладой вечности.
Время как вечность, время как миг в цветаевском стихотворном поле оживляются, словно субстанции, которые способны и обидеть, и успокоить одновременно.
В языке автора находят отражение все сложнейшие философские и физические представления о времени, самое главное – уникальная модель времени поэтического языка обогащает и углубляет наше научное знание о психофизиологическом восприятии времени носителем языка.
Категория темпоральности, эксплицированная даже лишь на уровне временных лексем, способна задать «тональность» тому образу мира, который воссоздает автор, представить его с определенной, субъективной точки зрения и может рассматриваться как механизм формирования (кодирования) и передачи или акцентуации личностных смыслов, имеющих эмотивную, образную, ассоциативную природу и в силу этого обладающих особой интерпретативной значимостью.
У поэта Марины Цветаевой временные лексемы, объединяя множество разнородных элементов с оттенками временных значений, образуют многослойность текста и на авторском уровне реализуют глубинный смысл повествования в целом. И именно так темпоральные имена используются поэтом то глубоко осознанно, то иррационально, интуитивно, трансформируясь тем самым в художественную истину. Не случайно самым сильным «временным» словом, повторяющимся, как набат, является «пора» в одном из последних стихотворений Марины Цветаевой:
Пораснимать янтарь,
Пораменять словарь,
Порагасить фонарь
Наддверный...
Слово категории состоянии здесь перерастает в имя «Пора!», то есть время, оно пришло, а может, закончилось?!
Так, время, с которым поэт постоянно находился как бы в состоянии конфликта, время, в котором поэту было очень трудно, эксплицируется в стихотворном поле в самых различных зонах смысловой и текстовой организации. Время как нечто светлое, красивое и близкое проявляется в текстах Марины Цветаевой феноменально редко: такое мы наблюдаем только в начальный период ее творчества: «О, золотые времена», – восклицает поэт только в своих первых стихотворениях «Книги в красном переплете» (1910), вспоминая «рай детского житья»; «Ах, золотые деньки!.. Маленькой, милой Тарусы Летние дни» (1911).
Совершенно точно подметила эту закономерность известный ученый В.И. Маслова. Время для Марины Цветаевой, по ее утверждению: «быстрый и сильный поток, который ломает жизнь. И чтобы вырваться в вечность, она еще более убыстряет время. В этом смысле М. Цветаева очень русский поэт, ибо русский человек не любит долго длящихся событий» [2004: 55].
Подытоживая все вышесказанное, констатируем:
1. Категория времени в лирических стихотворениях Марины Цветаевой эксплицируется грамматическими формами и единицами самых разных уровней. Самым ярким и эмоционально насыщенным способом реализации темпоральности в языковом поле автора являются имена существительные с временной семантикой.
2. Слова, наполненные временным смыслом, у автора выступают в основном в форме именительного падежа, что подчеркивает «начальность-изначальность», отдаленность их от всех косвенных форм слов (вспомним древнегреческих языковедов, признававших именами только слова в именительном падеже).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу