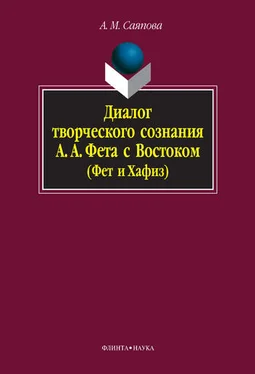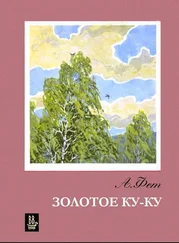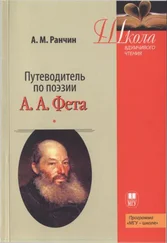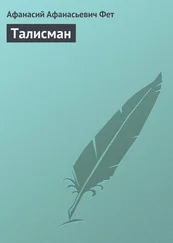Вводная философская часть произведения (семь строф) содержит трезвый взгляд на жизнь как на царство абсурда, дисгармонии; эмоциональная тональность взаимоотношений соловья и розы – трагизм: «И любят друг друга, – но счастья – / Ни в утренний час, ни в вечерний. / И по небу веки проходят, / Как волны безбрежного моря, / Никто не узнает их страсти, / Никто не увидит их горя». Следующие четыре строфы, предваряющие диалог соловья и розы, повествуют об ангельской «отметине» на их судьбе. В последних четырех строфах – итоговые рассуждения о любви розы, которая «во сне только любит и любит, / И от счастья плачет и спит!» Сон для розы стал замещением жизни, во сне она любит, слышит песни любви. Таким образом, образ сна вполне экзистенциален: являясь замещением жизни, он спасает от отчаяния, способствует гармонизации отношений.
Фетовед В.Н. Касаткина в работе «Лирика сновидений А.А. Фета» справедливо интерпретирует мотив сна в лирике Фета не как явление романтизма, а как признак постромантизма. Она пишет: «...оттолкнувшись от романтической традиции, поэт отошел от нее, в его лирике весь видимый и чувственный мир как бы погружен в состояние грезы-сна («все мечты почиющей природы»). Такого рода слияние сна и яви, реального и нереального и пребывание действительности в объятиях грезы-сна – важнейший признак уже постромантизма, которым отмечены больше всего сборники «Вечерних огней» [1: 78]. Экзистенциальный смысловой подтекст произведения, содержащийся, как и у Хафиза, в лаконичных метафорических суждениях-сентенциях, – еще одно доказательство справедливости этого положения.
Итак, очевидно, что образ соловья у Фета, как и у Хафиза («Несчастный, как и я, любовью к розе болен»), – своеобразный «заместитель» автора, в нем – выражение духовной сути самого поэта. Такое замещение было достигнуто, благодаря отказу от сущностного отношения к жизни ради стремления к Красоте, как к Всевышнему. Именно изживание себя в творчестве отстраняет Фета от сущностного отношения к другому (к возлюбленной Марии Лазич), благодаря чему и создаются лирические герои его произведений – соловей и роза. Отстранение от сущностного отношения к другому, другим, миру делает Фета автором – творцом своих героев. Лирического героя-человека у Фета по его мироощущению, мировосприятию можно воспринимать абсолютно равным автору-человеку, вместе с тем лирическое «я» как «продукт» автора не может совпадать с автором-творцом. Авторская позиция «извне» (Бахтин), позиция отстранения, которая началась у Фета с отказа от сущностного отношения ко всему, кроме процесса изживания себя в творчестве, способствовало тому, что образы соловья и розы стали доминантными в творчестве поэта, определили все мифологемы, философемы его лирики. Как мифологема и философема соловей – идеальный прообраз прекрасного, возвышенного, который, без сомнения, имеет русские корни (см., например, диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук А.В. Азбукиной «Образ-символ “соловей” в русской поэзии XIX в.» (Казань, 2001). Мы же говорим прежде всего о восточном контексте образа.
1. Касаткина В.Н. Лирика сновидений А.А. Фета // А.А. Фет. Поэт и мыслитель: сб. науч. тр. М., 1999. С. 69–82.
2. Бахтин М.М. Работы 20-х годов. Киев, 1994.
3. Бухштаб Б.Я. А.А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1990.
4. Скатов Н.Н. Н.А. Некрасов и продолжатели. М., 1986.
5. Бубер М. Два образа веры. М., 1995.
6. Павлова И. Трансформация суфийской темы «Путешествие» в маснави Икбала «Новый цветник тайн» // Творчество Мухаммада Икбала: сб. статей. М., 1982. С. 123–135.
7. Шопенгауэр А. Избранные произведения. М., 1992.
8. Бертельс А.Е. Художественный образ в искусстве Ирана IX–XI вв. Слово, изображение. М., 1997.
9. Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. Опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. М., 1993.
10. Шарафадина К.И. Обновление традиций флоропоэтики в лирике А. Фета // Русская литература. 2005. № 2. С. 18–54.
Поэтический концепт «Я – Ты»: «чистое созерцание Красоты»
Гегель, характеризуя пантеистический взгляд магометанского поэта как субъекта, пишет: «...одержимый жаждой видеть во всем божественное и действительно узревая его, поэт отказывается перед его лицом и от самого себя, признавая вместе с тем имманентность божественного своему расширенному таким образом и освобожденному внутреннему миру. Благодаря этому у него возникает та радостная интимность, то свободное счастье, то упование в блаженстве, которое свойственно восточному человеку, отрекающемуся от собственной особенности, всецело погружающемуся в вечное и абсолютное и познающему и чувствующему во всем образ и присутствие божественного» [1: 78]. По Гегелю, такое чувство проникнутости божественным граничит с мистицизмом. Любовь к божеству, с которым человек отождествляет свое «я» в безграничной самоотдаче, он видит в творчестве Дж. Руми, Хафиза. В последнем он видит способность восточного человека, не испытывая подавленности и не впадая в сентиментальность и ворчливую меланхолию, принимать приговоры судьбы и оставаться при этом уверенным в себе. «...Восточным народам, и главным образом магометанским персам, – продолжает Гегель свою мысль, – свойственна свободная, счастливая интимность чувства; они открыто и радостно отдают все свое самобытие как богу, так и всему, достойному похвалы, достигая в этой самоотдаче свободной субстанциальности, которую они умеют сохранить и по отношению к окружающему миру» [1: 79].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу