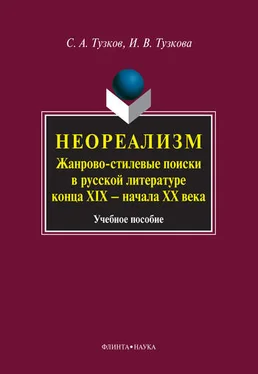1 ...7 8 9 11 12 13 ...141 Несколько иначе строится фрагмент из шестой главы рассказа, в котором развитие художественного конфликта достигает кульминации: «Была тихая, тёплая, тёмная ночь; окно было открыто…» [с. 209]. Здесь также осуществляется переход косвенной речи в несобственно-прямую, но при этом используются другие, более тонкие средства. В этом фрагменте предложения с косвенной речью обращены к прошлому и настоящему, а с несобственно-прямой речью – к будущему времени: «…он видел бесконечные лучи, которые они (звёзды. – И.Т.) посылали ему, и безумная решимость увеличивалась. Нужно было отогнуть толстый прут железной решётки, пролезть сквозь узкое отверстие в закоулок, заросший кустами, перебраться через высокую каменную ограду. Там будет последняя борьба, а после – хоть смерть…» [с. 209] 24.
Благодаря тому, что косвенная речь в приведённых фрагментах переходит в несобственно-прямую, разъединённые как субъекты речи герой и автор-повествователь объединяются и воспринимаются читателями как носители единого сознания. Возникающий при этом лиризм гаршинского рассказа выражает эмоциональное состояние героя; но поскольку он передаётся не прямой, а несобственно-прямой речью, то он переносится и на автора-повествователя, который действительно не только описывает, но и разделяет переживания героя, сочувствует ему. Так в прозе В. Гаршина происходит совмещение, казалось бы, далеко отстоящих друг от друга качеств – объективности и лиризма. В результате объективность, связанная с эпической описательностью, бесстрастностью, и лиризм, выражающий стихию субъективности, эмоциональности, сливаются в проникнутой лиризмом (лиризованной) объективности.
Таким образом, в рассказе В. Гаршина «Красный цветок» драматизация повествования создаёт, а его лиризация усиливает эффект присутствия читателя в художественном мире произведения: сначала он ощущает себя рядом с героeм, а затем все глубже проникает в его сознание.
Из многочисленных форм выражения лирического начала в рассказе В. Гаршина наиболее яркой, глубокой, несомненно, является зкспрессивная символика, переводящая содержание произведения из реально-бытового плана в символико-романтический. В художественной структуре рассказа многие повторяющиеся детали приобретают символическое значение, причем гаршинские образы-символы, как правило, неоднозначны. Основная нагрузка, естественно, ложится на лирико-символический образ красного цветка, который олицетворяет собой силы зла и в сознании героя ассоциируется с персонажем персидской мифологии – Ариманом, принявшим «скромный и невинный вид» 25. Именно образ цветка, создавая обобщающее представление об основной теме рассказа, привносит в повествование эмоциональное напряжение: «В этот яркий красный цветок собралось все зло мира (…), он впитал в себя всю невинно пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слезы, всю желчь человечества» [с. 206]. Но символика красного цвета в художественной структуре произведения В. Гаршина двупланова: с одной стороны, она вводит в повествование лирико-романтический пафос неприятия мира, основанного на зле и крови (красный цветок), тем самым усиливая тревожную атмосферу гаршинского рассказа; а с другой стороны, оказывается связанной с темой добра и милосердия (красный крест).
Также в двух значениях в рассказе использована символика креста: крест – знак мученичества (больным выдавали колпаки с красными крестами, и герой рассказа «само собою разумеется, придавал этому красному кресту особое, таинственное значе ние» [с. 204]) и крест – знак силы, крестного знамения (трижды срывая цветы, герой рассказа, чтобы не дать им «при издыхании излить все своё зло в мир», прячет их у себя на груди, сжав на ней руки крестом). Аналогичным образом В. Гаршин проводит мысль о двоякой сущности огня: огонь уничтожающий(герой, протянув руку к цветку, не сразу решается сорвать его, так как чувствует «жар и колотье в протянутой руке, а потом и во всем теле, как будто бы какой-то сильный ток неизвестной ему силы исходил от красных лепестков и пронизывал все тело» [с. 204] 26; остатки сорванного, увядшего за ночь и растоптанного цветка герой бросает в «раскаленную каменным углем печь» [с. 207]) и огонь очищающнй(«горящие» глаза гаршинского героя являются признаком того душевного горения, которое в художественном мире писателя становится главным критерием оценки личности).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу