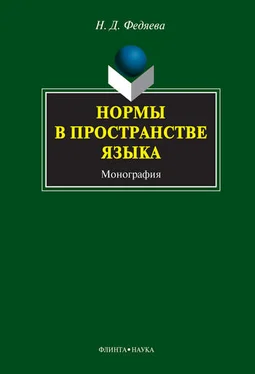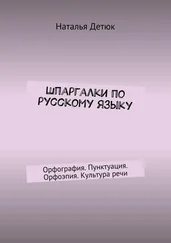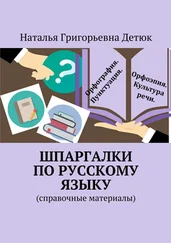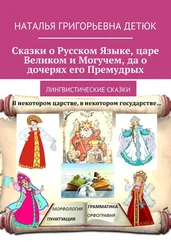Вот и с машиной с этой тоже. Или девушек его взять… Вы понимаете: ведь приличному юноше не с кем завести отношения. Разве это девушки? Проститутки, а не девушки. – Нина Михайловна брезгливо сморщилась и настойчиво повторила: – Прос-ти-тут-ки! Как одеваются! (А. Волос, ruscorpora); Марина сопровождала подрядчика, подвергая легкой критике его бессловесный пессимизм и указывая на кое-какие плюсы. В конце концов она его разговорила, и подрядчик стал время от времени возмущенно восклицать, посверкивая глазами из-под густых чёрных бровей: «Да разве это стояки?! Это ж труха, а не стояки!» Или то же самое про подоконники и штукатурку: «Да разве это штукатурка?! Труха это, а не штукатурка!» (А. Волос, ruscorpora). В первом примере отметим редуцированную экспликацию мотива категоризации (манера одеваться – типичный признак проститутки); во втором показательно, что сомнение в категоризации носят оценочный характер: если объект не соответствует нормативным представлениям о том классе, к которому должен быть причислен, это плохо.
• Это Х, а лучше (точнее) сказать, Y (= объект в достаточной степени соответствует нормативным представлениям о классе, однако это не один член категории, а другой). Говорящий стремится максимально точно отразить в слове сущность объекта, при этом сравнительная степень наречия эксплицирует градуированность категории.
Нервный ты какой. – Нервный, подозрительный, а лучше сказать – суеверный (Т. Моспан, ruscorpora); Изнасилована – это еще очень мягко сказано… Точнее сказать – зверски изнасилована (М. Милованов, ruscorpora).
• Не Х, а скорее, Y (= свойства объекта соотносятся с нормативными представлениями о классе Х, но большее сходство наблюдается между объектом и членами класса Y). Говорящий мягко (через предположение) предлагает изменить квалификацию объекта.
– Перерезаны, что ли? – уточнил Гуров. – Не совсем так, – поправил Семин. – Не перерезаны, а, скорее, перетерты… нет, перекушены – так вернее будет (Н. Леонов, А. Макеев, ruscorpora); Зато романы у нее были, т. е. не то чтоб совсем романы, хорошие, толстые с добротной фабулой, занимательным сюжетом и непременно с героями, лучше всего настоящими мужчинами, нет, максимум повести, а скорее, рассказы, бездарные графоманские рассказики, перечитывать которые не хотелось, хотелось изорвать, сжечь и забыть (Г. Маркосян-Каспер, ruscorpora). Отметим в обоих примерах эксплицированный процесс перебора номинаций и удовлетворяющий говорящего результат последней категоризации.
Сравнение объекта с нормативными представлениями о категории, к которой он может принадлежать, влияет на то, каким образом будет вербализован итог сравнения, иначе, какая номинация будет выбрана. Выбор номинации подводит своеобразный итог категоризационного процесса. Высказывания, в которых эксплицирована метаречевая рефлексия говорящего по поводу выбора номинации, «высвечивают» процесс сопоставления воспринимаемого объекта и нормативных представлений о классе, к которому он причисляется, и оценку говорящим результатов этого сопоставления. Анализ представленных в параграфе конструкций подтверждает мнение ученых о градуированности и диффузности границ наивных категорий, а также наши предположения о взаимосвязи «нормативные представления – категория – номинация».
3.2.3. Нормативные представления как пресуппозитивный компонент значения слова
В этом параграфе исследуются некоторые классы слов, для понимания значения которых важны нормативные представления о называемом объекте. С опорой на замечания, сделанные лингвистами [9; 30; 32; 36; 82], в качестве таковых прежде всего следует назвать таксономическую лексику, параметрические и общеоценочные прилагательные.
Как уже упоминалось, таксономическая лексика (иначе, имена естественных родов, родо-видовые наименования) рассматривается как иллюстрация невыделенности значения нормы из основного лексического значения слова, противопоставленная очевидности значения аномалии [9, с. 83]. Критикуя традиционные толкования и предлагая для описания значения метод семантических примитивов, А. Вежбицкая, тем не менее, признает, что большая часть слов этой группы может быть истолкована только по формуле «Х – то, о чем мы думаем: “это Х”» [30]. Выше мы рассматривали такое положение вещей в связи с гипотезой о роли нормативных представлений в процессе категоризации и о сути когнитивных языковых норм. В этом параграфе считаем необходимым уточнить круг лексем, применительно к которым правомерно рассматривать нормативные представления как имплицитную часть значения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу