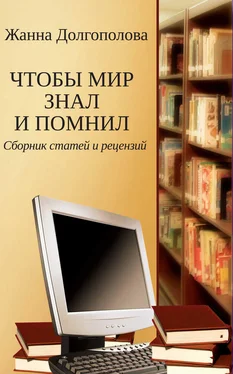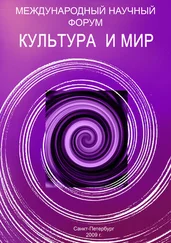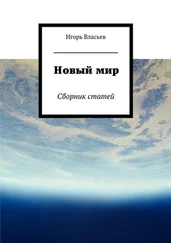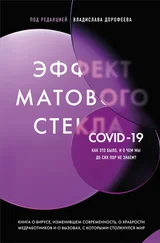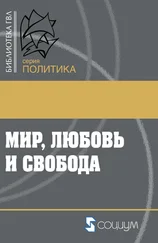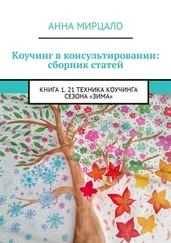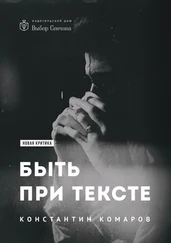После войны Зинаида Шаховская в качестве специального корреспондента союзных армий побывала и в лагерях смерти, и на Нюрнбергском процессе, и в лагерях для перемещенных лиц трех оккупационных зон в Германии и Австрии. Советские военнопленные, «остарбайтеры», угнанные на подневольные работы в Германию из советских республик и стран, ставших советскими в ходе войны, а также русские иммигранты с оккупированных советами территорий – все эти «перемещенные лица» задавали один и тот же вопрос: «Что теперь с нами сделают?» Однажды советский грузовичок подбросил Шаховскую в соседний городок. «Что вы делаете во французской зоне?» – спросила она у подвозивших. «Разыскиваем соотечественников: пленных, дезертиров и других», – без утайки ответили ей. Шаховская слышала о многих единичных и массовых самоубийствах при передаче советских их отечественным властям. Ее коллегу, русскую переводчицу из Швейцарии, вызвали переводить в лагерь, в котором пленные советские «азиаты» зарезали «двух сволочей, агитировавших их вернуться домой», а узнав о согласии швейцарского правительства передать их Сталину, решили покончить жизнь самоубийством и принялись копать себе могилы, избавив от дополнительного труда тех, кто их выдавал. Ссылается она также на рассказ шведского генерала Карла фон Хорна о том, как, подчиняясь приказу, он насильно репатриировал более трехсот тысяч советских военнопленных (в массе своей азиатского происхождения), захваченных немцами в самом начале войны и интернированных на Северном мысе (Швеция). Шаховская разыскала очевидца, пережившего трагедию близ старинного австрийского городка Линца, и записала его рассказ, как Британия, выполняя секретный ялтинский протокол (по которому «независимо от их воли все советские подданные транспортируются в СССР»), передала более двух тысяч казачьих офицеров специальным советским службам, после чего рядовых казаков уже под советским конвоем повезли к железнодорожной станции, но многие выпрыгивали на ходу из грузовиков, и их косили автоматные очереди.
«Все это происходило при полном молчании Запада, – пишет Шаховская, – потому что страны, называвшие себя свободными, не желали портить отношений с одной из держав-победительниц». Тем не менее, когда трагедия в Линце стала достоянием общественности, в немецкоязычной газете Шаховская вычитала среди малозначащих новостей сообщение о том, что «двадцать шесть тысяч советских пленных из американского сектора поклялись покончить с собой, если их выдадут властям родной страны». Пройдет еще тридцать лет, и лорд Николас Бетелл в обличающей западных союзников книге «Последняя тайна: принудительная репатриация в Россию в 1944–1947 гг.» напишет: «…Наиболее ужасное впечатление производит история с казаками, так как они не были советскими подданными и их не надо было выдавать даже по Ялтинскому соглашению; они безоговорочно верили англичанам, и потому их особенно бесстыдно обманули, заманив в ловушку; среди них было более половины женщин, детей, стариков; спаслись немногие; коллективные самоубийства семей не исключительное явление в этой истории…»
Книга «Таков мой век» очень хорошо издана. Над ее переводом работало шесть специалистов, но отредактированный текст стал лексически и стилистически гомогенным (уж если кто из переводчиков назвал англосакса «англосаксонцем», этот «англосаксонец» потом еще не раз встретится). Текст сопровождают многочисленные постраничные примечания «автора» и «переводчика», завершает его именной (выборочный, но хорошо идентифицированный) указатель, с помощью которого легко находить и перечитывать/передумывать отдельные страницы. Жаль, правда, что имена в указателе записаны по-разному: иногда это фамилия с инициалами имени и отчества (Ильин В. Н.), иногда это только фамилия (Ребульский) или имя (и отчество) и род занятий его носителя (Лидия Александровна, учительница; Никита, охранник; Никита, слуга) – неужели этих одноразово упомянутых учительницу и никит тоже надо было помещать в указатель? Особую роль в книге воспоминаний играют фотографии из семейных и музейных архивов и генеалогическое (хотя и сокращенное) древо рода Шаховских. Они не только убеждают читателя в достоверности информации, но дают ему возможность визуально запомнить действующих лиц, а это способствует и более глубокому пониманию авторского текста, и формированию собственного отношения к прошлому.
Но хорошему не бывает предела. Было бы хорошо в такой книге поместить еще и предметный указатель – алфавитный и гнездовой. Издательство «Русский путь» приняло на себя особый труд – вернуть русской культуре принудительно вырванное из нее звено, и каждая выпущенная им книга становится для читателя учебником, энциклопедией, справочником. В этом случае предметный указатель оказывается незаменимым подручным и связным, помогающим соединить многие и разные публикации в единый культурный текст. Хорошо было бы также предварить или заключить мемуары биографией автора, из которой читатель узнал бы о том, что по скромности или преждевременности осталось за пределами воспоминаний: Зинаида Шаховская не упоминает, что за участие в Сопротивлении она награждена орденом Почетного легиона, что ее франкоязычная проза отмечена высокими литературными премиями, что в 1960 – 1970-е гг. она была главным редактором газеты «Русская мысль» и т. д. Хорошо было бы также дополнить издание списком хотя бы ее русских книг, а может быть, и литературных обозрений, комментариев и статей, изданных на Западе (в Париже и Берлине) и в России – уж если просвещать читающую публику, так со всей щедростью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу