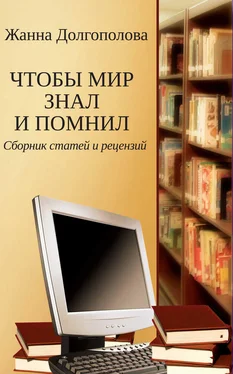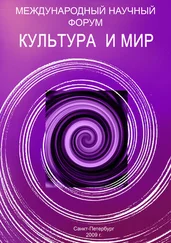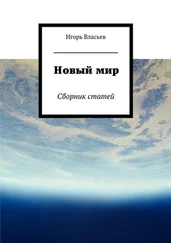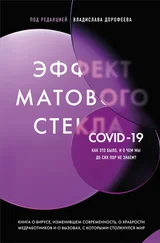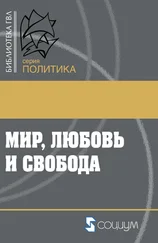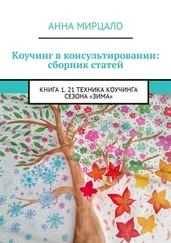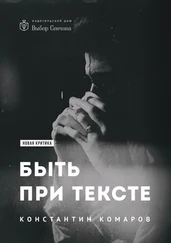В небольшой книжке 1970 года «Подсолнух: о возможности прощения и его пределах» [105]Симон Визенталь говорит всего о нескольких концлагерных событиях, определивших его послевоенную жизнь. Один эпизод почти мимолетный: заключенных везут на работу мимо львовского кладбища, и Визенталь замечает на могилах немецких солдат посаженные рядом с крестами подсолнухи. Для зэка Визенталя подсолнух – символ неразрывной связи мертвых с живыми, и, зная, что его самого ждет только безымянный ров, он завидует вражеским покойникам, о которых помнят. Позднее для Визенталя помнить погибших и не дать миру о них забыть – стало делом жизни. Второй эпизод значительно длиннее: концлагерником он однажды работал во дворе временного военного госпиталя; вдруг рядом остановилась женщина с красным крестом на косынке и, ухватив его за рукав: «Еврей?», увлекла за собой в госпиталь, завела в плотно зашторенную палату и вышла, притворив дверь.
В глубине комнаты лежал молоденький эсэсовец. Это он просил сестру милосердия найти еврея, чтобы успеть перед смертью рассказать о мучившей его вине: как он в Днепропетровске участвовал в акции уничтожения евреев; сотню их загнали в здание школы и взорвали ее; как долгими ночами в ожидании смерти он мечтал встретить еврея и просить у него прощения за Днепропетровск, боясь, что не осталось в живых уже ни одного еврея; и вот теперь он рассказывает еврею всю свою коротенькую жизнь – и про маму, которая всегда верила, что у нее «хороший мальчик», и опять про Днепропетровск, он просит отпустить ему грехи его и дать ему умереть с миром. «В комнате воцарилась напряженная тишина, – вспоминает Визенталь. – За окном яркое солнце, а здесь в потемках лежит человек, страстно жаждущий покойной смерти, но память о страшном преступлении не дает ему покоя, а рядом с ним другой человек, тоже обреченный на смерть, но он не хочет умирать, потому что жаждет увидеть конец ужаса, заполонившего мир. Первый просит прощения. Второй, сам беспомощный, ничем ему не может помочь». Визенталь молча вышел из комнаты.
Он рассказал об этом солагерному приятелю Йозеку, который ответил: «Я поначалу боялся, что ты его простишь. А у тебя нет права прощать за тех, кто тебя не уполномочил. Сам, если хочешь, ты можешь простить и забыть своих обидчиков. Это твое личное дело. Но прощать тех, кто не перед тобой, а перед другими виноват, нет, такого нельзя брать на свою совесть». Позже Визенталь повторит свой рассказ поляку семинаристу из Освенцима и спросит, простил бы тот умирающего нациста, осуждает ли он Визенталя за непрощение. «Мы много и долго говорили об этом, и не пришли ни к какому заключению. Наоборот, Болек стал уклоняться от первоначального утверждения, что я обязан был простить умирающего, а я начал сомневаться в том, что тогда поступил правильно. Но сами разговоры были полезны. Он, будущий ксендз, и я, еврей, приводили друг другу разные доводы и начинали лучше понимать точку зрения другого».
Но сомнения остались, и четверть века спустя Симон Визенталь закончил свою книгу вопросом: «А что бы Вы сделали на моем месте?» И случилось самое неожиданное: читатели захотели ответить на этот вопрос, и у книги «Подсолнух» появилось продолжение? читательские размышления о прощении. Сначала их было всего десять, но с каждым переизданием прибавлялось число ответов читателей из разных стран. В переиздании 1998 года их пятьдесят три от людей разных вероисповеданий (иудаизм, буддизм, христианство разных изводов), разных профессий (ученые, писатели, журналисты, философы, психологи, дипломаты) и разного жизненного опыта: многие пережили нацистские, китайские (девятнадцать лет!) и камбоджийские концлагеря, другие изучают Холокост и геноцид – индейский, армянский, африканский, южно-азиатский, югославский. Религиозные и мирские философы размышляют и объясняют, прежде всего, что такое прощение, кто и как может дать и получить его, и при этом оказывается, что в иудейской, христианской и светской социальной этике больше сходства, чем различий. Многие читатели отвечают только на вопрос, прав ли заключенный, не простивший умирающего убийцу. Другие обращают внимание на его поведение у постели умирающего солдата и при встрече с его матерью (после войны Визенталь разыскал ее в Штутгарте, слушал ее воспоминания, но не рассказал ей, как умирал ее сын) и делают выводы о его характере. Третьи стараются разгадать намерения умирающего солдата и решить, имел ли он право просить о прощении. Приведу только несколько выдержек из наиболее аргументированных высказываний.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу