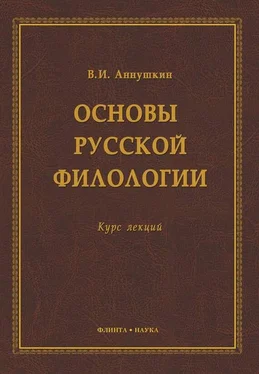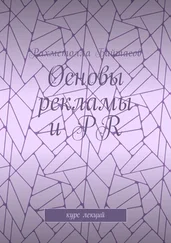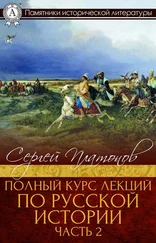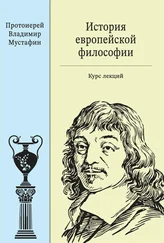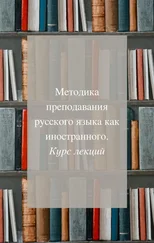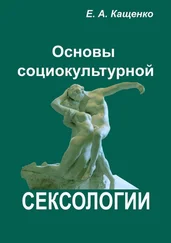Впрочем, само слово «словесность» несомненно уже было известно в XVIII в. Словарь русского языка XI–XVII вв. отмечает это слово уже в XVI в.: «Словесность – ευλοττια. Влх. Словарь. С. 372. XVI в.». В XVIII в. это слово встречается в переписке с Берлинской королевской академией наук и словесности (1786) и Прусской академией наук и словесности (1792) [Летописи 2002: 725, 791].
В Словаре Академии Российской словесность находит толкование в гнезде «слово»: – «1) Знание, касающееся до словесных наук. Силен в словесности; 2) Способность говорить, выражать» [CAP: V, 536]. Обратим внимание на то, что это еще не «наука», а только «знание» или «способность». Но смеем предположить, что именно эта подсказка Словаря создала предпосылки для рождения и утверждения «словесности» как термина русской науки. Появление этого слова в Академическом Словаре имело важнейшее значение для его последующего осмысления и употребления множеством авторов первой половины XIX в.
Создателем и утвердителем «словесности» в педагогике стал скорее всего А. С. Никольский, первые сочинения которого относятся к 1790 году (анонимное издание «Логики и риторики»), а «Основания российской словесности» выдержали 7 изданий в течение 1807–1830 гг. Концепция А. С. Никольского приобрела влияние благодаря предельной простоте его схемы: «Словесность (дар слова) есть способность выражать мысли словами» [Никольский 1807: 1, 8]. Характерно, что сама словесность здесь еще не наука, а только «способность».
Показывая правила, по которым употребляют эту способность, словесность образует две науки: грамматику, научающую «правильному употреблению слов», и риторику, показывающую «способ, как располагать и изъяснять мысли». Характерно, что А. С. Никольский не употребляет термина «красноречие», но риторика определяется как «искусство располагать и приятно изъяснять свои мысли» [Никольский 1807: II, 1]. Таким образом, ломоносовское разведение риторики и красноречия у А. С. Никольского оказалось нивелированным. «Грамматика, риторика и поэзия» помещаются автором «совокупно, дабы все относящееся к словесности, преподаваемо было по одинаковой системе» [Никольский 1807: 9–10]. Эта совокупность «словесных наук», повторяющая «Словарь Академии Российской», тем не менее начинает существенно расходиться с ломоносовской.
Итак, лишь во времена писавшего свой исторический очерк А. Красовского «словесность» станет основным термином, обобщающим все филологические науки (примерно так же, как «элоквенция» у В. К. Тредиаковского). Симптоматична характеристика Академии, которая «своим бытием и первым цветущим возрастом» обязана тому попечению, которое оказывала Екатерина к «языку и словесности его». Сочетание «словесность языка» не могло появиться во времена создания Академического словаря, но оно вполне реально во времена создания исторического очерка А. Красовского.
В 40-е годы XIX в. термин словесность действительно станет основным в русской филологической науке. Так, в «Чтениях о словесности» 1837–1843 гг. профессора Московского университета И. И. Давыдова к «науке» относится объективная словесность, которая включает 3 больших раздела: 1) теория языка; 2) теория изящной речи; 3) теория слога. К области объективной словесности принадлежат грамматика и риторика, рассматриваемые применительно к конкретному языку или народу. К «творчеству человеческого духа» относится субъективная словесность – ее воплощением являются тексты словесности (это уже не «наука»!): поэзия и красноречие. Разделение красноречия и поэзии базируется на выражении в словесных произведениях «мира действительного, ограниченного» и «мира идеального». Родами красноречия являются история, философия, ораторская речь, родами поэзии – эпос, лирика, драма [Давыдов 1837:15, 19].
Такова перспектива развития словесных наук в России, которым в 50-е годы XIX в. грозили в некотором смысле распад и крушение. Ученым, поставившим под сомнение ценность прежних «словесных наук» и декларировавшим в России рождение нового понимания предмета (теперь уже под названием «науки о Слове»), стал профессор Ришельевского лицея К. П. Зеленецкий. Начав свое основное теоретическое сочинение с похвалы теоретикам риторики древности и с критики ее достижений со стороны нынешних «самостоятельных обработывателей», К. П. Зеленецкий совершенно определенно заявил о начале нового века в науке: «Только в последнее время, когда здание словесных наукраспадается само собой, когда его заменяет Наука о слове(выделено мной. – В. А.), знамя которой на развалинах теории словесности первый у нас водрузил профессор Давыдов, когда труды свои посвящают этому предмету мужи, каковы В. Гумбольдт и Бопп, реторика как часть науки о слове может надеяться получить полное право гражданства в сфере наук точных, положительных; может сбросить свою схоластическую одежду и принять вид более естественный, более согласный с духом и с направлением нашего времени» [Зеленецкий 1846: 9]. Характерна попытка объединить «Науку о слове» с трудами основателей языкознания, которым, конечно, не были чужды «логосические» идеи божественного происхождения слова (языка). Рассуждения же самого К. П. Зеленецкого о «точности и положительности» нового понимания науки слишком напоминают декларированные и не всегда оправдывающие себя заявления позднейших «самостоятельных обработывателей» и реформаторов науки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу