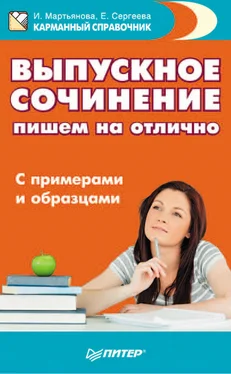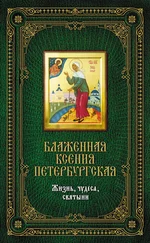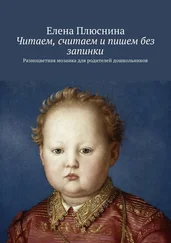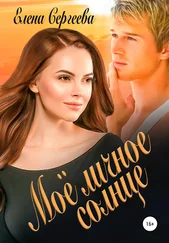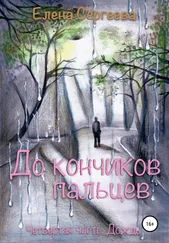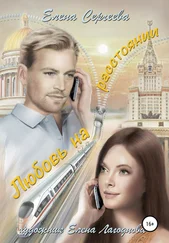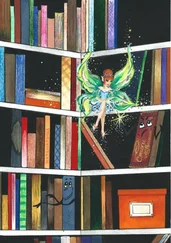29 января 1937 года вся страна была в трауре (неточность: во-первых, какая страна, а во-вторых, не вся страна, а образованные или хотя бы грамотные люди): умер Александр Сергеевич Пушкин. Последующие два дня его дом был полон народу: более десяти тысяч человек пришло проститься с гениальным поэтом. «Нет, весь я не умру», – писал Пушкин. Нам остались его бессмертные поэтические творения.
Каковы же основные темы его стихотворений? Это и лирика дружбы, и любовная лирика. Большое значение Пушкин придавал размышлениям о назначении поэта и поэзии, но я бы хотела рассмотреть вольнолюбивую лирику. (Почему именно вольнолюбивую? Это следует как-то обосновать.)
Одно из самых ранних произведений на эту тему – ода «Вольность», написанная в 1817 году. Сам жанр оды предполагает восхваление; но совсем не царя, как это было ранее (Ломоносов, Державин) собирается прославлять (во-первых, следовало бы написать имена поэтов не в скобках, как в сугубо научном тексте, а ввести их в предложение: «как это было ранее в произведениях Ломоносова и Державина», во-вторых, нельзя ничего не сказать о знаменитой в свое время оде А. Радищева, чье название воспроизводит Пушкин) поэт: «Хочу воспеть Свободу миру, на тронах поразить порок». Цель лирического героя – это попытка поддержать рабов.
Вероятно, в его представлении существует два мира: тот, где царит «Рабства грозный Гений», и другой, где правит «святая Вольность», то есть свобода, данная Богом. В стихотворении складывается следующая иерархия (речевая ошибка: иерархия не складывается, а строится): во главе всего – Бог, поражающий «преступленье свысока», затем Закон, а ниже – царь и народ. В мире рабства, в отличие от мира вольности, эта связь нарушается, то есть кто-то начинает управлять Законом. В этом смысле (непонятно, в каком смысле: следовало написать «перед законом», «перед ним») и царь, и народ равны («…Горе племенам… где иль народу, иль царям Законом властвовать возможно!»). Именно такой мир Рабства окружал императора Павла. (Как может окружать не мир в прямом смысле слова, а мир рабства? Здесь следовало написать «существовал при Павле».) Здесь царит «тьма ночная», живут «звери», здесь, вероятно, «отверсты» врата ада. И лишь «народов вольность и покой» действительно могут исправить этот мир, став «вечной стражей трона». Таким образом, свобода в сочетании с Законом (неточность: не в сочетании, а связанная) становится обязательной в этом мире (либо фактическая, либо речевая ошибка: свобода отнюдь не обязательна, она – идеал) для лирического героя данного (речевая ошибка: официально-деловое слово в сочинении неуместно, надо написать – этого) стихотворения. А то, что может ее подавить, – это рабство. (Последнее предложение совершенно излишне, так как повторяет уже высказанную мысль.)
Та же «святая вольность» появляется (наверное, не сама появляется, а описывается, становится главной темой и так далее) в стихотворении «К Чаадаеву». Лишь свобода может зажечь сердца. И герой (лирический герой!) искренне верит в «звезду пленительного счастья», но лишь вольность может дать (лучше – подарить) это счастье. Теперь уже обязательным условием воцарения свободы становятся «обломки самовластья». Если в оде «Вольность» лирический герой был прежде всего наблюдателем, то в стихотворении «К Чаадаеву» он сам готов отречься от «любви, надежды, тихой славы», заменив их, может быть, на чувства патриотизма и любви к Отечеству (речевая ошибка: патриотизм и любовь к отечеству – это одно и то же). (Следовало бы написать о том, что в тексте Пушкина любовь к родине уподобляется любви к женщине.)
К вольнолюбивой лирике относится и стихотворение «Деревня». Оно условно разделено на две совершенно разные (не совсем точно – части стихотворения противопоставлены и в то же время соотнесены) части. Природа, познание истины, свобода души противопоставляются «Невежества убийственному Позору», Рабству. И опять у лирического героя Пушкина «в груди… горит жар», а главным врагом Свободы вновь становится Рабство. Но «Деревня», в отличие от стихотворения «К Чаадаеву», заканчивается вопросом. Лирический герой уже не уверен в том, «взойдет ли, наконец, прекрасная Заря». И если раньше самодержавие свергалось (свергать самодержавие стихами нельзя, можно призывать к его свержению!), то теперь поэт восклицает: «Увижу ль, о друзья! Народ неугнетенный и Рабство, падшее по манию царя».
Совершенно меняется настроение героя в стихотворении «Свободы сеятель пустынный…». В том, что он боролся против рабства, лирический герой видит теперь лишь потерянное время. «Я вышел рано, до звезды», – говорит он, понимая, что страна (неточность: не страна, а народ) еще не готова к свободе, еще не взошла «звезда пленительного счастья». «К чему стадам дары свободы?» Таким образом, лирический герой видит народ безвольным стадом, не желающим проснуться от «чести клича». И то, что ранее поэту казалось возмутительным, ужасным, теперь становится вполне закономерным (речевая ошибка: не закономерным, а понятным).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу