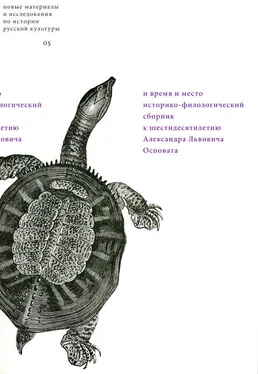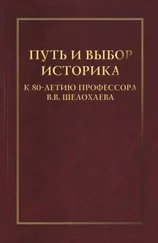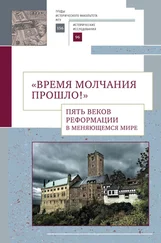1 ...5 6 7 9 10 11 ...328 Случай еще раз развернуть и эксплицировать эту мысль представится Феофану в третьем акте той же драмы, когда ему придется панегирически толковать новый династический кульбит российской истории – воцарение Анны Иоанновны. Главным сюжетом его «Слова на день возшествия <���… > Анны Иоанновны. О том, что власть царская собственным промыслом Божиим получается», произнесенным 19 января 1733 года, вновь оказывается история царя Давида. «Ни что же мне так не дивно, как Давидово на царство возведение. В единой сей Истории пречудный имеем приклад, как то и умыслы и труды человеческия изволению Вышняго не могут препятствовать» [Феофан 1760: II, 84]. Подробно пересказав, как объявленному Божьему благоволению к Давиду препятствовали Саул и прочие и как, несмотря на это, предначертанное свершилось, Феофан объявляет все это совершенно сходным с невероятным по житейскому разумению появлением на российском троне Анны Иоанновны. Впрочем, не забывает он и истории Соломона и, развивая ту же мысль, вспоминает сыновей Давида – Авессалома и Адония: «чего они, один при житии, а другии при кончине отца своего не делали», чтобы получить трон, удивляется Феофан, но не смогли воспрепятствовать Божьему предопределению [Феофан 1760: II, 182].
Разумеется, эмоциональная и эстетическая насыщенность новгородской встречи имеет вполне конкретный исторический и политический подтекст. Достаточно вспомнить, что следующей остановкой Петра II на пути в Москву должна была стать Тверь – вотчина тверского архиепископа Феофилакта Лопатинского, претендовавшего на роль интеллектуального лидера противной Феофану партии. Это противостояние проявилось и при обсуждении программы воспитания царя в Верховном тайном совете летом 1727 года, куда Феофана даже не пригласили, и при поручении о составлении картин к коронационным торжествам (в поручении были указаны имена обоих архиепископов). Наконец, важнейшей победой Феофилакта стало принятое в ноябре 1727 года на основании его собственноручного заключения решение Верховного тайного совета о печатании сочинения Стефана Яворского «Камень веры» [Протоколы: 710],что открывало дорогу внутрицерковной атаке против Феофана. Однако вряд ли своей одой и содержавшимися в ней весьма общими указаниями на «злых и льстивых», «хитроклевещущих» и «ненасытных грабителей» Феофан надеялся направить недоброжелательство двенадцатилетнего государя на своих противников; он создает пусть и яркую, но вполне общую картину борьбы вокруг трона. Панегирическое вдохновение Феофана имеет, как представляется, несколько иную и более общую цель.
Отталкиваясь от остроумной аппликации, в которой «сближение» Соломона и Петра II мотивировано указанием на возраст, он навязывает юному царю экзальтированно провиденциалистский взгляд на историю, в рамках которого династические перипетии предшествующего десятилетия должны потерять свою актуальность. Более того, провиденциализм Феофана (как это было и в петровские времена) является способом конституировать царскую власть как непосредственно причастную божественной воле – имеющую эту волю своим источником и несущую прямую ответственность перед ней, и таким образом де-актуализировать доктрину о посреднической роли церкви между царями земными и царем небесным. Взгляд на события текущей истории как на отражения и «повторения» событий истории священной позволяет Феофану смоделировать тот тип монархического пиетизма, который не нуждается в руководстве и аффирмации церкви, но является формой особого пастырского служения (ср. русскую эпиграмму, приведенную в конце феофанова описания новгородских торжеств: «Дал Петру стадо свое упасти спаситель, / дабы тем делом Христов явился любитель. / Бог и Петру Второму вручил стада многа / и сотвори известно, коль любит он бога» [Феофан 1961: 216]). Весьма характерно в этом контексте, что, отводя сотому псалму столь важную роль в коронационном обряде и желая подготовить царя к предстоящей процедуре и таинству миропомазания в своем новгородском действе предкоронации, Феофан предельно актуализирует содержание псалма (что столь точно почувствовал П.Н. Берков) посредством перевода его в иной, нецерковнославянский культурно-лингвистический контекст и таким образом придает каноническому тексту характер не просто религиозно-политической доктрины, но даже программы конкретных царских действий и жестов. Наиболее ярко этот метод барочной парафразы проявляет себя в интерпретации Феофаном стиха 6 сотого псалма, который превращается у него в целую строфу (см. примеч. 3). Здесь не только fideles terrae латинского текста псалма становятся sancta Regi, sancta Deo Fides, но и ministrabit mihi («ми служаше» в церковнославянском переводе) становятся «министрами ближними» – adiunctos ministros. По этой же причине, вероятно, Феофан не создает полноценного русского аналога оды: русский текст, воспринятый на фоне канонического церковнославянского, выглядел бы слишком вольной интерпретацией и мог подвергнуться тем же упрекам и нападкам, которым подверглась «псалма» Тредиаковского 6, что, в свою очередь, позволило бы усомниться в православности как самого метода Феофановой экзегезы событий священной истории, так и предлагаемой им модели «императорского благочестия».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу