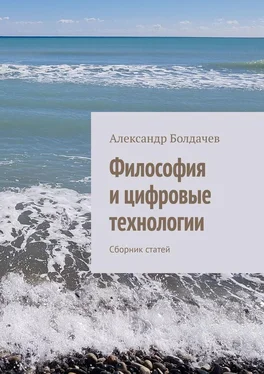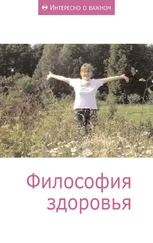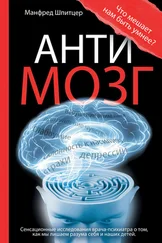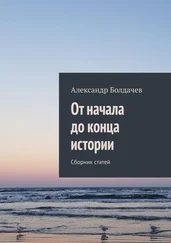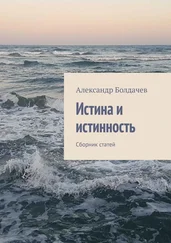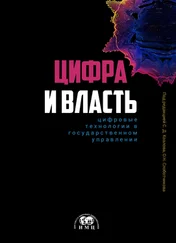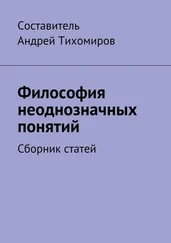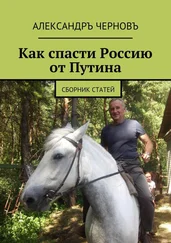Для обсуждения возможных принципов организации постсоциумной системы и трансформации современных информационных сетей, помимо эволюционных соображений, необходимо фиксировать и некоторые философско-логические основания, в частности, касающиеся соотношения онтологии и логической истинности.
В современной философии существует несколько конкурирующих теорий истинности: корреспондентская, авторитарная, прагматическая, конвенциональная, когерентная и некоторые другие, включая дефляционную, отрицающую саму необходимость понятия «истинность». Данную ситуацию трудно представить как разрешимую, могущую завершиться победой одной из теорий. Скорее, мы должны прийти к пониманию принципа релятивности истинности, который можно сформулировать так: истинность предложения может констатироваться только и исключительно в границах одной из множества более или менее замкнутых систем , которые в статье «Многомировая теория истинности» [4] я предложил называть логическими мирами . Для каждого из нас очевидно, что для утверждения истинности произнесенного нами предложения, констатирующего некое положение дел в персональной действительности, в собственной онтологии, не требуется отсылки к какой-либо теории истинности: предложение истинно просто по факту встроенности в нашу онтологию, в наш логический мир. Понятно, что существуют и надындивидуальные логические миры, обобщенные онтологии людей, объединенных той или иной деятельностью – научной, религиозной, художественной и пр. И очевидно, что в каждом из этих логических миров истинность предложений фиксируется особо – по способу включенности их в конкретную деятельность. Именно специфика деятельности внутри некоторой онтологии определяет набор методов фиксации и генерации истинных предложений: в одних мирах превалирует авторитарный метод (в религии), в других когерентный (в науке), в третьих конвенциональный (в этике, политике).
Итак, если мы не хотим ограничивать семантическую сеть описанием лишь некой одной сферы (скажем, физической реальности), то мы изначально должны исходить из того, что в ней не может быть одной логики, одного принципа истинности – сеть должна строиться на принципе равноправия пересекающихся, но принципиально не сводящихся друг к другу логических миров, отражающих множество всех мыслимых деятельностей.
И тут мы переходим от философии эволюции к эволюции интернета, от гипотетических сингулярностей к утилитарным проблемам семантического веба.
Основные проблемы построения семантической сети в большой степени связаны с культивированием ее проектировщиками натуралистической, сциентисткой философии, то есть с попытками создать единственно правильную онтологию, отражающую так называемую объективную реальность. И понятно, что истинность предложений в этой онтологии должна определяться согласно единым правилам, согласно универсальной теории истинности (под которой чаще всего подразумевают корреспондентскую, поскольку речь идет о соответствии предложений некоей «объективной реальности»).
Здесь следует задать вопрос: что должна описывать онтология, что для нее является той «объективной реальностью», которой она должна соответствовать? Некое неопределенное множество объектов, называемое миром, или конкретную деятельность в пределах конечного набора объектов? Что нас интересует: реальность вообще или фиксированные отношения событий и объектов в последовательности действий, направленных на достижение конкретных результатов? Отвечая на эти вопросы, мы необходимо должны прийти к выводу, что онтология имеет смысл только как конечная и исключительно как онтология деятельности (действий). А следовательно, бессмысленно говорить о единой онтологии: сколько деятельностей – столько и онтологий. Онтологию не надо придумывать – ее надо выявлять путем формализации самой деятельности.
Конечно, понятно, что, если речь идет об онтологии географических объектов, онтологии навигации, то она будет одна для всех деятельностей, не ориентированных на изменение ландшафта. Но если мы обращаемся к областям, в которых объекты не имеют фиксированной привязки к пространственно-временным координатам, не имеют отношения к физической реальности, то онтологии множатся без каких-либо ограничений: мы можем приготовить блюдо, построить дом, создать методику тренировки, написать программу политической партии, соединить слова в поэму неконечным числом способов, и каждый способ – это отдельная онтология. При таком понимании онтологий (как способов фиксации конкретной деятельности) создаваться они могут и должны только в этой самой деятельности. Конечно, при условии, что речь идет о деятельностях, непосредственно выполняемых на компьютере или фиксируемых на нем. А других скоро совсем не останется; те же, которые не будут «оцифровываться», нас особо интересовать не должны.
Читать дальше