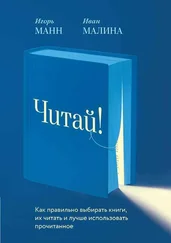Одним из побочных эффектов распространения ИНЦ, которые приходят на ум, является рост количества самоцитирований. И хотя отсечь их при измерении заметности работ исследователя не составляет труда, оказывается, что, вопреки ожиданиям [78] 78 См.: Joseph Bensman, “The aesthetics and politics of footnoting,” in Politics, Culture and Society , 1, 1988, pp. 443–470; в этом длинном эссе нет ни одной ссылки или конкретных данных, а лишь пространная спекуляция на тему прогрессирующей самореферентности и стратегий цитирования.
, доля самоцитирований остается достаточно стабильной с 1980 года [79] 79 См.: Vincent Larivière, Alesia Zuccala, Éric Archambault, “The declining scientific impact of theses: implications for electronic thesis and dissertation repositories and graduate studies,” in Scientometrics , 74, 2008, pp. 109–121; см. также: Matthew L. Wallace, Vincent Larivière, Yves Gingras, “A small world of citations? The influence of collaboration networks on citation practices,” in PlosOne , 7, 2012, e33339.doi:10.1371/journal.pone.0033339.
. В целом практика самоцитирования не столь уж проблематична, тем более что у нее есть и легитимная функция: напомнить об уже опубликованных автором работах, на которые опираются его нынешние труды. На самом деле мотивации цитирования собственных и чужих работ в общем-то схожи [80] 80 См.: Susan Bonzi, H. W. Snyder, “Motivations for citation: A comparison of self citations and citations to others,” in Scientometrics , 21, 1991, pp. 245–254; см. также: Béatrice Millard, “Les citations scientifiques: des réseaux de références dans des univers de références. L’exemple d’articles de chimie,” in REDES, Revista hispana para el análisis de redes sociales , 19, 2010, pp. 69–93.
.
Многочисленные критические высказывания в адрес практик цитирования — некоторые обоснованные, другие не очень (как мы только что увидели) — набрали силу внутри академического поля за последние два десятка лет лишь вследствие все более частого использования показателей цитирования для оценки качества научных исследований как на индивидуальном, так и на институциональном уровне. Действительно, критика самоцитирования или ссылок на своих имеет смысл только в свете того, что ссылки стали чем-то вроде валюты, используемой в процессе оценивания исследователей. Поэтому стоит рассмотреть вопрос оценивания более подробно.
С недавних пор участились разговоры о важности оценки научных исследований, и поэтому может создаться впечатление, что в предыдущие эпохи ученых не оценивали. Необходимо прояснить это недоразумение и напомнить, что возникновение оценочных процедур датируется началом институционализации науки, а их сфера применения впоследствии расширялась по мере появления новых организационных структур. С середины XVII века и до наших дней исследователи всегда подвергались оценке.
Проблема состоит не столько в оценивании как таковом, сколько в расширении его применения. В результате исследователям поступает все больше запросов на оценку их коллег, и некоторые отвечают на эти запросы отказом, не желая отрывать время от собственной работы [81] 81 См.: ESF [Европейский научный фонд], ESF Survey Analysis Report on Peer Review Practices , ESF, March 2011; www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/pr_guide_survey.pdf.
. И хотя некоторые ученые, видимо, считают, что работу мысли оценить невозможно, следует напомнить, что оценивание на разных уровнях уже давно осуществляется в следующих сферах:
1) научные публикации и доклады;
2) запросы на финансирование исследований;
3) преподавание в высшей школе;
4) продвижение по должности;
5) научные центры и департаменты;
6) учебные программы в высшей школе;
7) с конца 1980-х годов в некоторых странах к этому списку прибавилась оценка самих университетов.
Оценка публикаций
Не будет преувеличением сказать, что практика оценки научных трудов восходит к созданному в марте 1665 года журналу Лондонского королевского общества Philosophical Transactions . Его главным редактором был один из двух секретарей этого ученого общества Генри Ольденбург. Это издание представляло собой прототип современного научного журнала: его содержание ограничивалось сферой науки и включало книжные рецензии, оригинальные статьи и перепечатки статей из иностранных источников. Уже в анонсе проекта этого нового издания уточнялось, что его содержание будет «рецензироваться членами Общества» [82] 82 Marie Boas Hall, Henry Oldenburg. Shaping the Royal Society (Oxford: Oxford University Press, 2002), p. 84. Первым научным журналом действительно был Journal des savants , издававшийся Дени де Салло с января 1665 года. Однако три месяца спустя его выпуск был запрещен. Потом он был возобновлен, однако его содержание стало весьма разнородным и касалось всех видов деятельности «литературной республики». Это была скорее литературная газета, нежели реферируемый научный журнал в современном смысле.
. Сам Исаак Ньютон испытал на себе превратности оценивания, подав в 1672 году свою первую статью в Philosophical Transactions Лондонского королевского общества. Рецензентом был назначен Роберт Хук, не обнаруживший в произведении Ньютона ничего оригинального и даже посчитавший, что заключения автора ошибочны в свете его собственной теории света, опубликованной несколькими годами раньше. Ньютон же имел дерзость не снизойти даже до ее упоминания. Такая оценка, разумеется, ввергла Ньютона в страшный гнев… [83] 83 Idem, ibidem , pp. 167–169.
Читать дальше
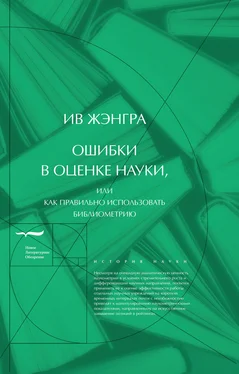



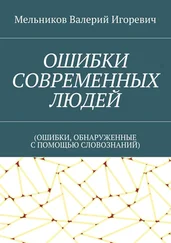
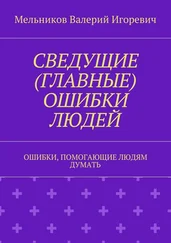
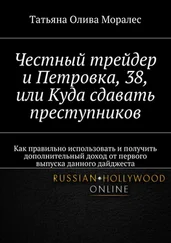
![Ив Жангра - Ошибки в оценке науки, или как правильно использовать библиометрию [калибрятина]](/books/390964/iv-zhangra-oshibki-v-ocenke-nauki-ili-kak-pravilno-thumb.webp)