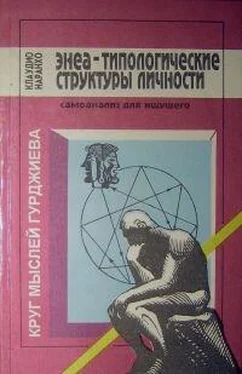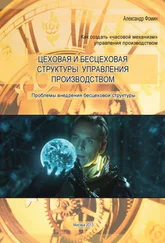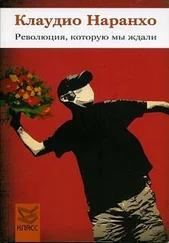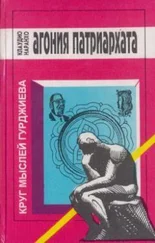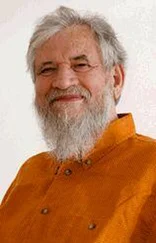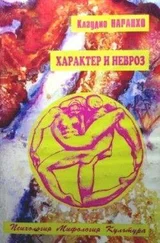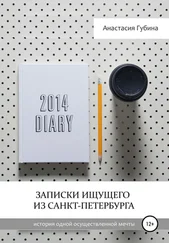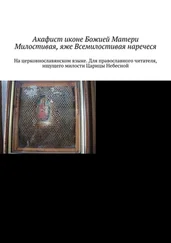На последующих страницах я дам определение видение в широком смысле и не обязательно в тех терминах, в которых я слышал это определение. На протяжении этой книги я иногда буду пользоваться для этого, как делал Ичазо, словом «протоанализ», хотя этот термин относится не только ко всей совокупности знаний, но изначально к процессу протоанализа. [3]
В психологии четвертого порядка мне хотелось бы подчеркнуть существеннейшую разницу между тем, что Гурджиев называет «сущностью», и тем, что он называет «личностью», - между реальным и условным существованием, с которым мы обычно себя отождествляем. Там, где Гурджиев говорит о личности, Ичазо говорит об эго - в смысле, который обычно соответствует современному его употреблению (путешествие эго, смерть эго, трансцендентность эго и т.д.), а не тому, который присвоен «эго» в современной «эго-психологии». Эта разница соответствует той, которую проводит Винникот между «реальным я» и «вымышленным я», и все же было бы неправильно говорить о сущности, душе, истинном я или атмане так, как если бы их значение было чем-то точным и определяемым. Вместо того, чтобы говорить о сущности как о предмете, нам следует думать о ней как о процессе, лишенном эго, ясном и свободном функционировании интегрированной человеческой целостности.
Хотя «эго» - это то слово, которое я чаще всего употреблял, говоря о своих идеях в начале семидесятых годов, в этой книге я почти так же часто буду пользоваться словом «характер», которое, как я считаю, является подходящим эквивалентом того же самого понятия без тех недостатков, что несет в себе дополнительное значение «эго» в современном психоанализе. Производное от греческого charaxo, что означает «запечатлевать», обращается к тому, что в личности постоянно, так как оно было запечатлено в ней, то есть к поведенческим, эмоциональным и познавательным установкам. Одним из достоинств современной психологии является то, что она осветила процесс разрушения самосознания на начальных стадиях жизни как следствие ранних эмоциональных разочарований в семье.
В ответ на боль и страх индивид стремится справиться с кажущимися чрезвычайными обстоятельствами посредством соответствующих чрезвычайных реакций, которые, особенно в силу осознания угрозы выживанию, становятся фиксированными, превращаются в повторяющиеся реакции, как называл их Фрейд. Это процесс, который влечет за собой утрату контакта со всем, кроме непосредственной реакции на чрезвычайные обстоятельства, подкрепленные опытом (притупление самосознания), и в то же время происходит выработка автоматизма, который превращает человека до какой-то степени, ско-Dee, в робота, чем в свободного агента по отношению к жизни.
Вместе с притуплением самосознания и автоматизацией, которые возникают в ответ на раннюю боль, в структуре эго существует полярность страстно желаемого и ненавистного, что вместе с обскурацией самосознания выделено в буддистской доктрине в качестве трех ядов, подчеркивающих существование самсары , то есть трех корней самосознания эго.
Теория невроза, рассматриваемая с точки психоанализа, конгруэнтна со взглядами Фрейда и Рейха на невроз как на следствие угасания инстинктов, а также с концепцией здоровья как четкой саморегуляции, которую, как правило, разделяют последователи гуманистической психологии со времен Роджера и Перлса. Хотя теория инстинктов с появлением экологии вышла из моды в кругах психоаналитиков, современная теория психологии признает наличие в поведении человека трех целей: выживания, удовольствия, общения. [4]
Доказано, что обычно личность переживает разбалансировку как реакцию на доминирующий инстинкт, и часто работа психотерапевта должна быть посвящена его коррекции. Считается, что такая разбалансировка является результатом проникновения в сферу инстинктов фактора эго, что отражено на схеме протоанализа как смешение страсти от более низкого эмоционального центра к одному из инстинктивных подцентров.
Вопреки традиционным религиям, которые слепо отождествляют инстинкты со сферой страстей, современная точка зрения, определяющая здоровье и оптимальное состояние как состояние свободных, или освобожденных, инстинктов, может быть адекватно соотнесена с современным понятием саморегуляции. Эта точка зрения, в соответствии с которой истинный враг в Священной Войне, которую предписывает наследие Четвертого Пути против неистинного, или низшего, я, - это не зверь внутри нас, но область побуждений, страстей, которые разлагают, подавляют и замещают инстинкты, а также, что самое страшное, и познавательные аспекты эго, создавая «фиксации», которые, в свою очередь, подкрепляют страсти.
Читать дальше