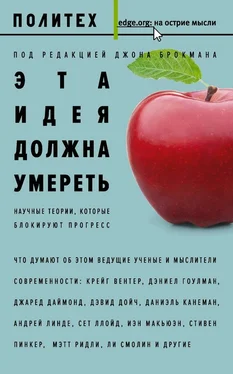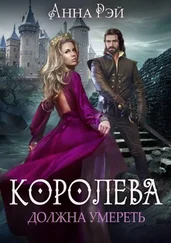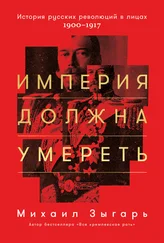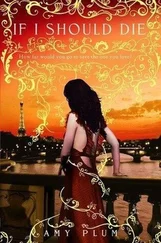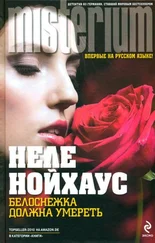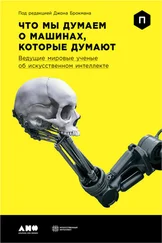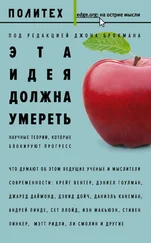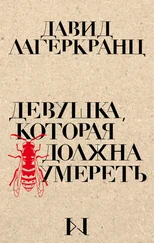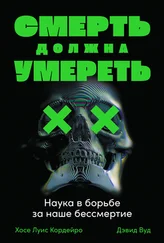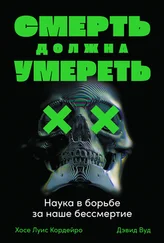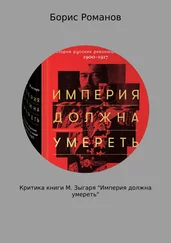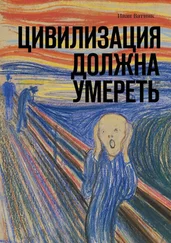Вопиющим примером подобной идеи может служить роль конкуренции в эволюции. Многие рассматривают теорию конкуренции как научно доказанный закон природы, многие экономисты и психологи принимают ее как нечто само собой разумеющееся – в то время как другие утверждают, что эта «теория» представляет собой всего лишь догадку. Биологи все чаще признают важность симбиоза в процессе эволюции, а также диверсификации, которая оказывается важнее конкуренции.
Тем не менее слова Дарвина о «выживании наиболее приспособленных», которые Герберт Спенсер приложил в качестве метафоры к описанию раннего индустриального общества, до сих пор считаются чуть ли не законом в описании человеческого поведения в целом.
Большинству людей не хочется признавать, что знание может быть властным, что оно может требовать от человека решений и действий – но при этом оно может постоянно пересматриваться. Люди склонны думать, что знание аддитивно, что оно накапливается, суммируется, и они не хотят соглашаться с тем, что в ответ на поступление новой информации требуется его реконфигурация. Именно эта характеристика научного знания заставляет многих из нас отрицать климатические изменения и значительно усложняет процесс отклика на новую информацию в рамках контекста, в котором пока слишком много неизвестных.
Какие еще свидетельства могут убедить сомневающихся в реальности того, что лучше всего описывается словами «нарушение климата»? Возможно, нам следует ввести ежегодный отбор идей, которые пора отправить на покой. При этом мы должны обращать особое внимание на тот факт, что каждый новый синтез комплексных данных потенциально может стать более инклюзивным. Отказ от концепции, которая более не соответствует фактам, – это, скорее, не вопрос отказа от ошибочных убеждений, а вопрос интеграции новой информации и вновь осознанных связей в ткань нашего понимания.
О стремлении к скупости
Джонатан Хайдт
Социопсихолог, профессор Школы бизнеса Штерна, Нью-Йоркский университет; автор книг The Happiness Hypothesis («Гипотеза счастья») и The Righteous Mind («Праведный разум»).
В жизни есть много вещей, которые хороши сами по себе, но в меру. Например, это деньги, любовь и секс. Я бы хотел добавить в этот список скупость.
Уильям Оккамский, английский логик XIV века, как-то сказал: «Не следует множить сущности без необходимости». Этот принцип скупости – известный в наши дни как «бритва Оккама» – в течение столетий использовался учеными и философами в качестве критерия при выборе одной из конкурирующих теорий. Слово «скупость» в данном контексте я понимаю как «экономность»: ученым необходимо быть экономными в процессе выстраивания своих теорий; иными словами, они должны использовать как можно меньше материала. Если две теории одинаково хорошо объясняют суть фактов, то вам следует выбрать более простую из них.
Если, к примеру, и Коперник, и Птолемей могут объяснять механику движения небесных сфер (в том числе возникающее время от времени движение планет в обратном направлении), то нам стоит пользоваться более экономной моделью Коперника.
Бритва Оккама – отличный инструмент, если вы используете его для того, для чего он изначально был предназначен. К сожалению, многие ученые превратили этот простой инструмент в фетиш. Они пытаются найти максимально простые объяснения для сложных явлений, как будто экономность является самоцелью, а не инструментом, применяемым для поисков истины.
Стремление к экономии вполне понятно в области естественных наук – иногда в них формулируется единственный закон, принцип или очень простая теория, способная объяснить суть всех различных наблюдений и фактов. Три закона Ньютона действительно объясняют, как происходит движение всех неодушевленных тел. Тектоника материковых плит действительно объясняет суть землетрясений, вулканов и того, почему береговые линии Африки и Южной Америки дополняют друг друга. Естественный отбор действительно объясняет, почему растения, животные и грибы выглядят так, как они выглядят.
Однако в области общественных наук чрезмерное стремление к скупости и экономии привело к настоящим бедствиям. Еще с XVIII века некоторые интеллектуалы стремились сделать для социального мира то же, что Ньютон сделал для физического. Прагматики, французские философы и другие утопические мечтатели жаждали социального порядка, основанного на рациональных принципах и научном понимании человеческого поведения. Огюст Конт, один из основателей социологии, поначалу называл свою новую дисциплину «социальной физикой». И к чему мы пришли за 250 лет подобных устремлений? К череде неудач, напрасной трате времени и идеологическим битвам.
Читать дальше