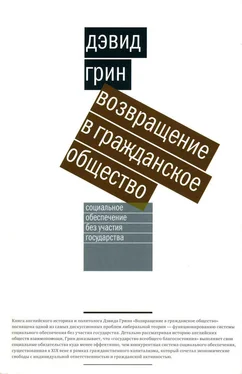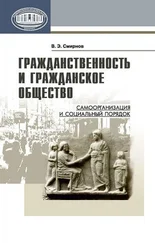Иллюстрацией этого изъяна могут служить реформы, осуществлявшиеся на заключительном этапе эпохи тэтчеризма. Для сторонника свободы связаная с НСЗ проблема заключается в том, что государство относится к гражданам как к малым детям, которых необходимо защищать от любых забот – якобы бесплатно, но на деле за их же счет. Таким образом, с точки зрения гражданственного капитализма цель реформы должна была состоять в возврате к личной ответственности людей за собственное здравоохранение, а государству следовало бы сосредоточиться на защите бедняков (подробнее мы остановимся на этом ниже). Однако правительство смотрело на ситуацию по-другому. Оно прежде всего хотело обеспечить качество услуг, за которые оно платит, и потому навязало обществу внутренний рынок в сфере здравоохранения.
Стоит вспомнить и о тэтчеровских реформах в сфере образования. Реальная проблема здесь заключается в том, что «государство всеобщего благосостояния» во многом сняло с родителей ответственность за воспитание собственных детей, подрывая тем самым институт семьи – главную ячейку свободного общества. Правительство, однако, отчасти руководствовалось таким же, как и у социалистов, недоверием к родителям – которые, как оно считало, не способны сделать правильный выбор, – а также поверхностными представлениями о человеческой природе. Оно использовало «потребительскую» риторику и стремилось к тому, чтобы деньги направлялись туда, куда выберут родители. Однако правительство не говорило о восстановлении ответственности родителей и не апеллировало к особой связи между родителями и детьми, чтобы привлечь к делу перестройки нашего школьного образования такую мощную силу, как родительский энтузиазм.
Идеал свободы отнюдь не исчерпывается рынком. Его сторонники традиционно стремились к созданию и укреплению институтов, способствующих самосовершенствованию людей. Когда в середине XIX века главные защитники свободы поставили принцип laissez-faire во главу угла своей философии и начали изображать людей как стремящихся в первую очередь к удовлетворению собственных потребностей, она утратила моральную силу. И эта моральная сила до сих пор не восстановлена.
Некоторые сторонники свободного рынка с сомнением относятся к подобной аргументации. Так, когда в разговоре с одним экономистом я высказал предположение, что рыночные реформы 1980-х увенчались лишь частичным успехом, поскольку не основывались на принципе личной ответственности людей и не ставили целью их нравственное самосовершенствование, он заметил: «А не это ли Джордж Блейк (британец-коммунист, изменивший родине и работавший на советскую разведку) говорил о коммунизме?» Блейк, судя по всему, считал, что коммунизм можно построить только в том случае, если люди станут совершеннее. Но сторонники гражданственного капитализма никогда не хотели создать «нового человека». Они стремились вдохновлять людей, а коммунисты начали с навязывания всем своих идеалов и вскоре стали считать тех, кто не желал им подчиняться, порочными по самой своей природе, тем самым обосновывая репрессии и убийства.
Сторонники гражданственного капитализма всегда осознавали: жизнь – это вечная борьба с несовершенством. Они не считали, что полного совершенства можно достичь. И они рассматривали нравственное совершенствование как сугубо добровольный процесс. Заставлять людей становиться лучше – абсурд, поскольку лучше человек может стать, только если он совершенствуется, несмотря на окружающие его соблазны. Конечно, коммунисты постоянно камуфлировали чисто насильственный характер своего правления словами о преданности высоким идеалам – и за счет этой тактики сумели обмануть немало представителей западной интеллигенции. Верно и то, что идеалисты часто прибегают к силе, чтобы заставить людей измениться к лучшему. Но было бы серьезнейшей ошибкой ассоциировать любой идеализм с принуждением. Следует различать тех, кто желает добиться идеала здесь и сейчас и потому верит в совершенство человека, и тех, кто считает стремление к совершенству достойной конечной целью, но с пониманием воспринимает несоответствие людей идеалу и реагирует на несовершенство не возмущением и наказанием «виновных», но поначалу с прискорбием, а затем – с решимостью возобновить борьбу за добровольное совершенствование.
Некоторые «рыночники» – сторонники чистого рационализма в экономике – расценивают любые разговоры о морали как прелюдию к принудительным мерам со стороны государства. Но при этом они забывают об интеллектуальной традиции, к которой сами же принадлежат. Свобода всегда была представлена системой институтов, основанных на восприятии жизни как борьбы с несовершенством людей. Закон подпирал эту систему, угрожая нарушителям наказанием за конкретные провинности. Конкуренция способствовала нацеливанию энергии людей, возможно движимых эгоизмом, на службу другим, а соблюдение нравственных принципов отчасти основывалось на «санкциях» в виде неодобрения общества, но в основном на том, что все были согласны: необходимо поощрять других к справедливым и продуманным действиям. Все понимали, что поддержание нравственной атмосферы требует усилий – как пловцу, чтобы не утонуть, проще всего держаться на воде за счет постоянного движения. И конца этим усилиям нет – по крайней мере в нашем мире.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу