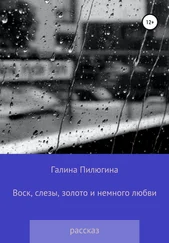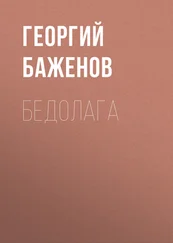Интересными и заслуживающими внимания представляются положения Мальтуса о роли «непроизводительных» классов в создании и реализации общественного продукта, о том, что кризисы перепроизводства могут быть не только частными, но и общими. Как признавался один из крупнейших ученых-экономистов 20-го века Дж. М. Кейнс, именно Мальтус вооружил его антикризисными идеями о факторах «эффективного спроса», роли промежуточных слоев общества в потреблении произведенного продукта и др.
Заимствование той или иной методической базы из одной области науки в другую – обычное дело, зачем эти возмущенные крики о «взаимопомощи»? И не надо упорно продолжать называть политэкономию – идеологией, да еще и придавая этому слову такую негативную окраску (хотя, конечно, экономическая наука, как и историческая, довольно тесно связана с политикой и, несомненно, испытывает значительное давление с ее стороны).
Далее автор упоминает, наконец-то, о других представителях «эволюционной этики», в частности о П. А. Кропоткине.
Главный тезис этой «немальтузианской» ветви дарвинизма, связанной прежде всего с именем П.А.Кропоткина, сводится к тому, что возможность выживания живых существ возрастает в той степени, в которой они адаптируются в гармоничной форме друг к другу и к окружающей среде. Не война всех против всех, а взаимопомощь!
Получается, что Кропоткину переносить биологические концепции можно, «законно», а вот всем другим нельзя, ибо их выводы не соответствуют субъективному восприятию автора, а значит – манипуляция!:
Манипуляция заключается в самом переносе механических или биологических понятий на человека как социальное существо.
Хуже того, автор невольно проводит мысль, что «очищение» «дарвинизма» произошло именно на лоне «русской культуры». Прежде, чем делать такие поспешные выводы, следовало бы подробнее ознакомиться с работами Р.Л. Триверса, Э. Уилсона, Ч. Ламсдена, М. Рьюза и некоторых других представителей современной социобилогии. Кстати, если уж говорить о «русской школе», почему бы не упомянуть о генетике В. П. Эфроимсоне, в частности его статье «Родословная альтруизма», в которой он пытается дать (впрочем, не очень успешно) генетическое обоснование альтруизму.
Автор доверчиво внимает Сахлинсу, который пишет (а может, и не пишет – Сергей Георгиевич порой очень неточен в цитатах), что, мол, то, что заложено в социобиологии, есть «занявшая глухую оборону идеология западного общества: гарантия его естественного порядка и утверждение ее неизбежности».
Что ж, посмотрим. Р. Л. Триверс, например, выдвинул концепцию, которая получила название «взаимного альтруизма». Причем здесь «человек человеку – волк»? А Ч. Ламсден, Э. Уилсон, М. Рьюз выдвинули концепцию «эпигенетических правил», попытавшись вырваться из узких рамок генетического детерминизма своих предшественников (Р. Докинза, У.Д. Гамильтона). Согласно этой концепции, и альтруизм, и кооперация обусловлены этими «эпигенетическими правилами», которые в свою очередь зависят от среды, в том числе и социальной. Где здесь Сахлинс (а за ним и Кара-Мурза) увидел оскал идеологии «западного индивидуализма», совершенно непонятно!
Далее автор пишет об интереснейшем эксперименте, поставленном западными учеными. Но! Заранее настраивает читателя на свой, «антизападный» лад:
Впечатляющим свидетельством того, до какой степени западный человек беззащитен перед авторитетом научного титула, стали социально-психологические экспеpименты, пpоведенные в 60-е годы в Йельском унивеpситете (США) - так называемые «экспеpименты Мильгpама».
Почему именно «западный человек»? Автору следовало бы внимательнее проверять приводимую им информацию. Степанов С.С., «Популярная психологическая энциклопедия», М., ”Эксмо”, 2005 г., с. 463.:
Аналогичные эксперименты, проведенные как в США, так и в других странах (Австралия, Иордания, Испания, Германия), позволили утверждать, что выявленная Милгрэмом закономерность носит универсальный характер.
Впрочем, сами результаты эксперимента довольно интересны и впечатляющи. Да, действительно, авторитет ученых сильно возрос за последние столетия (причем небезосновательно). С другой стороны, лучше все-таки подчинение авторитету ученого, нежели священника-инквизитора. Ученые обоснованнее вмешиваются в общественную жизнь, нежели это раньше делали церковники. Участники диалога ведут дискуссию не на уровне цитат из Библии, а пытаются подвести под свои утверждения какую-то доказательную базу, опираясь на данные материального мира. И далеко не всегда это вмешательство является негативным: например этот эксперимент провели именно ученые, так ведь? Так что, отметив негативность этого явления, нужно указать и на его прогрессивные стороны.
Читать дальше