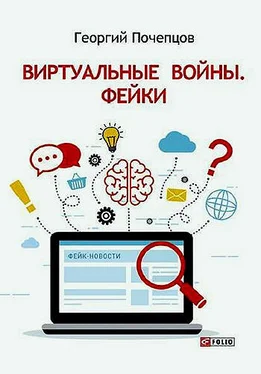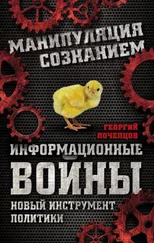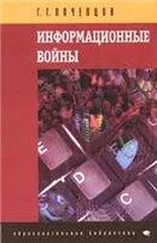Смены виртуальности можно увидеть не только по своим произведениям, но и по тем, которые переводятся в стране. Возьмем переводы американской литературы в СССР. Понятно, что любовь довоенного времени отражает «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида. Потом героику подвига сменила героика труда. На смену Павке Корчагину пришли живые герои из жизни — Паша Ангелина и другие. Следующие два американских текста — это Джек Лондон, повествующий о сильных и бесстрашных людях. А потом появляется Хемингуэй, борода которого даже перекочевывала с портретов в жизнь. Это было время начального периода безгероики, стиляг, впитывания элементов чужой жизни.
Виртуальность усиливается средствами литературы, искусства, кино. В этом случае она обретает материальность, доступную для глаз. И это происходит во все эпохи. Вспомним, что строительство соборов подрывало экономику средневековья, но все равно происходило. Это было наглядной иллюстрацией мощности данной религиозной доктрины в эпоху отсутствия кино и телевидения.
Виртуальность распространяет свою силу в разные стороны. Протестантизм плюс капитализм создал сильные страны, чего не удалось сделать другим религиям, даже близкому католицизму. Если не на религии, то на идеологическом стержне был выстроен и СССР. И эту идеологическую квазирелигию следовало создавать с чистого листа. Падение СССР можно было осуществить только изнутри с помощью перестройки за счет введения новых виртуальностей и свержения старой. Причем делал это так называемый «архитектор перестройки» А. Яковлев, который большую часть своей жизни занимался в ЦК именно пропагандой, то есть, по сути, руководил виртуальной квазирелигией советского времени.
Причем через века повторяются и формы, в которые облекается виртуальность. Понятно, что в первую очередь это нарратив, который носит универсальный характер. Но, как оказалось, это и сериальность, поскольку литературные произведения девятнадцатого века печатались в медиа своего времени по частям (см. анализ с этой точки зрения «Войны и мира» и «Евгения Онегина» [15] Трофимова Т. Война и мир как сериал // gorky.media/context/vojna-i-mir-kak-serial/ .
[16] «Что будет дальше — не знаю, а пока это и манерно, и мелко». Как читали «Анну Каренину» и «Евгения Онегина» до того, как они были дописаны // www.kommersant.ru/doc/3586853 .
).
Новая послереволюционная литература подвергалась суровой политической цензуре. Даже детская литература в СССР не оставалась без подобного присмотра. Ярким примером объекта политических нападок были, к примеру, сказки К. Чуковского [17] Почему в СССР запрещали сказки Чуковского // arzamas.academy/materials/372 .
[18] Лукьянова И.В. Корней Чуковский. Тайный политический смысл // chukovskiy.lit-info.ru/chukovskiy/bio/lukyanova/tajnyj-politicheskij-smysl.htm .
[19] «Полная безыдейность, переходящая в идейность обратного порядка». Борьба с «чуковщиной» // www.kommersant.ru/doc/2675093 .
. Н. Крупская даже выступила в 1928 г. в газете «Правда» со страшными для того времени словами, громившими «Крокодила»: «Звери под влиянием пожирателя детей, мещанина-крокодила, курившего сигары и гулявшего по Невскому, идут освобождать своих томящихся в клетках братьев-зверей. Все перед ними разбегаются в страхе, но зверей побеждает герой Ваня Васильчиков. Однако звери взяли в заложницы Лялю, и, чтобы освободить ее, Ваня дает свободу зверям:
„Вашему народу
Я даю свободу,
Свободу я даю!“
Что вся эта чепуха обозначает? Какой политической смысл она имеет? Какой-то явно имеет. Но он так заботливо замаскирован, что угадать его довольно трудновато. Или это простой набор слов? Однако набор слов не столь уже невинный. Герой, дарующий свободу народу, чтобы выкупить Лялю, — это такой буржуазный мазок, который бесследно не пройдет для ребенка. Приучать ребенка болтать всякую чепуху, читать всякий вздор, может быть, и принято в буржуазных семьях, но это ничего общего не имеет с тем воспитанием, которое мы хотим дать нашему подрастающему поколению. Такая болтовня — неуважение к ребенку. Сначала его манят пряником — веселыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него. Я думаю, „Крокодил“ ребятам нашим давать не надо, не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть» [20] Крупская Н.К. О «Крокодиле» Чуковского // www.chukfamily.ru/kornei/pro-et-contra/borba-za-skazku/nk-krupskaya-o-krokodile-chukovskogo .
.
Сегодня это воспринимается как какая-то пародия. Но тогда все это было достаточно серьезно. К травле подключилась и А. Барто. Все это было достаточно серьезным обвинением в накаленной политической обстановке того времени.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу