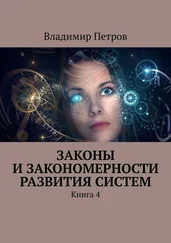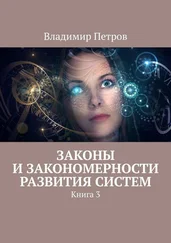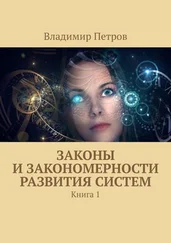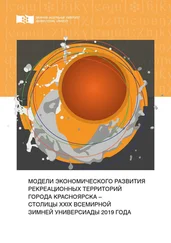Абсолютное большинство политических столиц мира являются приматными городами: только в 25 из 146 относительно крупных стран столица не находится в самом крупном городе (Datcher, 2000: 373–374). Это около 83 % всех государств. Однако многие экономисты считают феномен приматного города более характерным для экономически отсталых государств. В таких государствах приматные города часто отсасывают ресурсы из остальной страны и в связи с этим воспринимаются в качестве паразитических.
Важно отметить, что по определению у столиц нет специальной экономической функции. Но размер столицы и ее место и роль в стране, безусловно, оказывают серьезное влияние на развитие национальной экономики.
В целом ряде работ экономисты, политологи и географы поставили вопрос о причинах приматности и диспропорционального роста столичных городов.
Американские экономисты Альберто Эйде и Эдвард Глэзер приходят к выводу о том, что тенденция к совпадению приматности и столичности особенно четко проявляется в недемократических, нестабильных или коррумпированных государствах (Ades, Glaeser, 1995). В нестабильных государствах правительствам особенно важно создать привилегированный доступ к материальным благам для жителей приматных столичных городов в виде субсидий или более низких налогов, чтобы предотвратить или ослабить политические волнения в непосредственной близости от своего местопребывания. Кроме того, близость к центру принятия решений, согласно их мнению, увеличивает шансы на безнаказанную вовлеченность в нелегальные формы экономической деятельности (например, получение или дачу взяток). Чем менее демократической является страна, тем легче бывает воплотить в жизнь подобные стратегии (Ades, Glaeser, 1995). По подсчетам Эйде и Глэзера, в государствах, где не уважаются права человека, столицы в среднем на 45 % больше тех стран, где права человека соблюдаются [36].
Немецкий исследователь Рейхарт указывает и на другую причину, связанную с системой законодательства и информационными преимуществами (Reichart, 1993). Поскольку законы принимаются в столице, удаленность от политического центра создает преимущества – например, возможности лоббирования и быстрого реагирования на смену законов – для тех, кто находится ближе к центру. Этот фактор действует более явно в политически нестабильных государствах (Turner & Turner, 2011: 21).
В коррумпированных государствах возникает также особая рента от столичного положения, которая обеспечивает более высокий уровень жизни и доходов в столице. Она позволяет монополизировать ресурсы государства и создавать столичные очаги или рукава богатства. Коррумпированная бюрократия в таких странах, как правило, контролирует всю экономическую жизнь. Чем больше роль правительства и бюрократии, тем более критично пребывание в столице для бизнесов и лоббистов и тем стремительнее растет этот город и крупнее становится. Примерами таких стран могут служить Аргентина – здесь выдача лицензий на внешнюю торговлю сосредоточена в столице Буэнос-Айресе – и Россия, где торговля нефтью и газом, которые добываются в других регионах, сосредоточена в Москве.
Однако существуют и более универсальные законы, которые определяют первенство, диспропорционально высокие темпы роста и более высокие доходы для столичных городов (конечно, редко сопоставимые по своим масштабам и формам с коррумпированными странами).
Перераспределение доходов в пользу столичного города происходит в основном в результате четырех групп факторов, большинство из которых были описаны немецким урбанологом Циммерманом.
1. Наиболее непосредственным преимуществом столичного города является наличие большого количества рабочих мест в государственном секторе, что является прямым результатом пребывания в городе правительства. Правительство также обеспечивает такому городу и столичному региону в целом высокий уровень спроса на товары и услуги, которые он потребляет. Учитывая то, что во многих странах государство является самым крупным работодателем, экономические преимущества такого устройства для столичного региона могут быть чрезвычайно высоки и поддаются количественной оценке. По мнению немецкого исследователя Дашера, который сравнивал настоящие и бывшие региональные столицы Германии, прирост рабочих мест, непосредственно связанный со столичным статусом города, составляет примерно 7 % общего уровня занятости в столичном регионе (Dascher, 2002).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
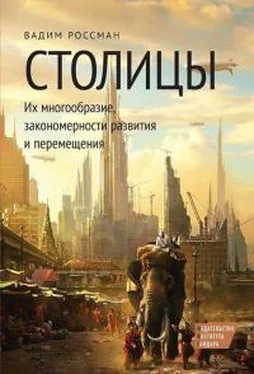
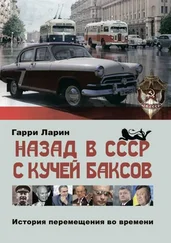
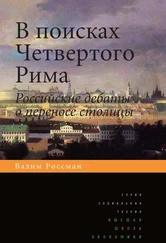

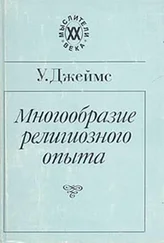

![Уилл Дюрант - Уроки истории [Закономерности развития цивилизации за 5000 лет]](/books/404194/uill-dyurant-uroki-istorii-zakonomernosti-razvitiya-thumb.webp)