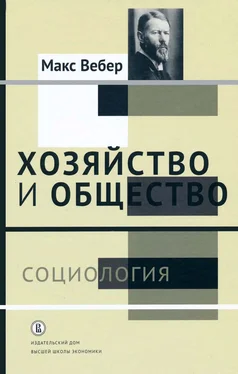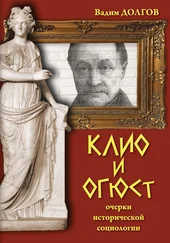Столь рискованное предприятие вызывало серьезные сомнения и требовало тщательной проработки. В упомянутой в начале статье автор этого предисловия старался показать, насколько мысль Макса Вебера, его преподавательская и лекторская работа в последний период творчества были пронизаны интересом к этим проблемам, которые не были еще до конца осмыслены им в контексте социологии господства, хотя отдельные подготовительные работы были уже напечатаны. Наглядное социологическое изображение процессов формирования рационального государства в дидактических разделах и рассуждениях в трех названных выше работах обогащается идейным материалом главного труда и, в свою очередь, оживляет его благодаря своей наглядности, демонстрируя в то же время место этих работ и содержащихся в них наблюдений в системе идей Вебера. Разработанные Максом Вебером в последние годы жизни и сформулированные в названных работах основные положения социологии государства, пусть даже автор и не придал им окончательного облика для включения в свой главный труд, неожиданно вписываются в концепцию «Хозяйства и общества», проявившуюся в новом издании, и обеспечивают фундаментальное единство социологии господства Макса Вебера. Из понимания этого единства следует и структура представления социологии государства в заключительном разделе книги. В названии раздела 8 исследуемая проблема сформулирована в согласии с первоначальным планом и с использованием терминологии самого Вебера. Разделение текста на параграфы и выбор заглавий пришлось провести редактору. К этой структуре приспосабливалось расположение отобранных фрагментов, причем приходилось прибегать к многочисленным перестановкам и опускать структурно и содержательно не отвечающие нашим целям разделы.
В результате оказывается, что текст, который представлен в этом разделе, написан самим Максом Вебером, за исключением одного несущественного переходного предложения, без которого оказалось трудно обойтись. Были элиминированы суждения чисто ценностного характера, изложение в ряде случаев переведено из формы обращения в форму высказывания. Поскольку исходные работы доступны публике, трудно возразить против такой обработки текста, отвечающей цели настоящего издания. Господину д-ру Хансу Брёрману, издателю трех использованных в этом разделе работ, следует принести особую благодарность за любезное разрешение на перепечатку избранных фрагментов.
Тем не менее должно быть ясно, что в результате всех усилий возник некий суррогат, а материал, упорядоченный здесь путем систематического отбора, представляет собой pars pro toto (часть вместо целого) и отнюдь не исчерпывает тематики социологии государства. Приходится также мириться с определенным стилистическим разнобоем, который объясняется не только частичным изменением формы первоначального высказывания в результате добавления или изъятия части текста. В оправдание можно сказать, что работы, где эти фрагменты стоят в аутентичном контексте, имеются в печатном виде, и в добавленном тексте нет ничего, что не было бы уже напечатано и не выражало идей и убеждений самого Макса Вебера. Кроме того, надо учитывать изменчивость стиля разрозненных высказываний, которые ученый использует ad hoc ради объяснения и обоснования каких-то тезисов и которые лишь теперь возвращены на свое типологическое место, соответствующее их собственному теоретическому содержанию и происхождению. К тому же не следует забывать: различные слои рукописи «Хозяйства и общества» восходят к разным периодам, в ней сосуществуют синтетически-типологическая, генетически-аналитическая и полемическая формы мышления и подачи материала, что соответствует способу работы и мотивам творчества Макса Вебера.
Нельзя не учесть и то обстоятельство, что, хотя раздел 8 дает представление о направлении мыслей Вебера по вопросам социологии государства, как они выражены также в других работах и (отчасти) в записях лекций, все же статьи и книга, из которых черпался материал для этого отдела, первоначально были написаны в другой связи и не предназначались для «Хозяйства и общества». Особенно это относится к статье «Парламент и правительство в новой Германии», которая имела в значительной степени политический программный характер. Во вступительных замечаниях к этой «политической критике чиновничества и партийной системы», написанной в 1918 г., Вебер говорит, что в ней нет ничего нового для специалистов по государственному праву, но она и не прикрывается авторитетом науки, ибо высказанные в ней пожелания нельзя обосновать научными средствами 65 65 Вебер Макс. Политические работы. М.: Праксис, 2003. С. 107.
. Его соображения венчаются выражением сознательного выбора в пользу определенной формы государства, а именно парламентской демократии, как она развивалась со второй половины XIX в., причем выбор этот не мог быть основан на эмпирической науке, которая строго нейтральна в отношении фиксируемого ею социального поведения. В этом смысле важны собственные слова Вебера о том, что «для любой партийной позиции, в том числе и для моей собственной, существуют чрезвычайно неприятные факты» 66 66 Weber Мах. Ges. Aufsätze z. Wissenschaftslehre. 2. Aufl. S. 587; 3. Aufl. S. 603.
. Он решительно отверг бы включение его воспроизведенных здесь высказываний в такой их форме в «Хозяйство и общество», как не являющихся научными в смысле «свободной от ценностей социологии». Свое мнение на этот счет он со всей ясностью выразил в связи с предпринятым Вильгельмом Хасбахом критическим рассмотрением парламентского кабинетного правительства. Эти высказывания с приведенными выше оговорками все же включаются в книгу лишь потому, что в них выпукло проступают взгляды Вебера на социологию государства, имеющие важное познавательное значение, и они не должны быть выброшены с этого их «типологического места» по соображениям сколь угодно благоговейного отношения к целостности веберовской социологии.
Читать дальше