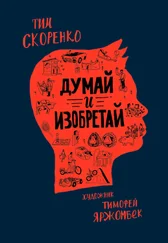Запомните первое правило: изобретательская школа может качественно работать и развиваться только в обществе, не подвергающемся регулярным социально-политическим потрясениям.
Немного об авторском праве
Вторая особенность русской школы заключается в очень позднем появлении патентного права и вообще исключительно наплевательском отношении к авторству — это характерно в том числе и для советского периода.
Патенты на изобретения начали эпизодически выдавать в Европе в XV (!) веке. Первопроходцами здесь оказались итальянцы, которые на тот момент славились как величайшие зодчие и конструкторы, — многие архитектурные и строительные решения, использующиеся до сих пор, были изобретены в эпоху итальянского Возрождения и защищены флорентийскими и венецианскими патентами того времени.
Первое официальное патентное ведомство появилось в Венеции в 1450 году. Во Франции королевские патенты-привилегии начал выдавать Генрих II с 1555 года, причем уведомления об этом впоследствии печатались в газетах для публичного обозначения авторства. В Британии и ее колониях право на интеллектуальную собственность начали фиксировать с XVII века, а первый американский патент был получен Сэмьюэлем Уинслоу в 1641 году — в документе описывался новый способ изготовления соли. В XVIII веке уже во всех европейских государствах и на их заморских территориях существовали регулярные патентные ведомства, рассматривающие изобретения и регистрирующие право их первоочередного использования или продажи.
Что же тем временем происходило в России? О какой-никакой изобретательской школе можно говорить начиная лишь с Петра I, который сделал для технического прогресса страны больше, чем все цари, правившие до него и в течение примерно 100 лет после. С легкой руки Петра (впрочем, к тому времени он уже умер) началась выдача царских привилегий на изобретения — на 150 лет позже упомянутого Генриха II, — и эта нерегулярная система держалась вплоть до 1812 года, когда Александр I наконец подписал толковый Манифест о привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и художествах, то есть первый русский патентный закон. Англия к тому времени имела такой закон, причем более совершенный, — о нем я расскажу во вступлении к третьей части — в течение более чем сотни лет.
Это резко подхлестнуло техническую мысль. В разделе книги, посвященном русскому изобретательству XVIII века, будет много печальных историй о том, к чему приводило практически полное бесправие изобретателей (особенно это заметно на примере великого Кулибина, родившегося не в том месте и не в то время). После Манифеста количество патентов, изобретений, открытий и научных трудов начало постепенно расти. А к концу XIX века, с принятием более современного положения, четко определявшего порядок получения привилегий, русская изобретательская школа нагнала конкурентов и в некоторых областях — особенно в электротехнической и оружейной — даже обогнала.
В советское время сложившаяся система была сломана и перекроена крайне невыгодным для авторов способом. Но технические умы приспособились и к ней — как раз к тому моменту, когда СССР начал постепенно изживать себя, двигаясь к очередному перелому и возвращению патентного права. Но об этом мы поговорим в другой раз.
Итак, второе правило: изобретательская школа может качественно развиваться только в обществе, уважающем авторское право. В идеале изобретатель должен зарабатывать своей работой — ведь нет лучшего стимула, чем деньги. Изобретателей-бессребреников во всей мировой истории можно посчитать по пальцам одной руки. Ну хорошо, двух рук.
Правила исторических фальсификаций
Пора заканчивать это скучное вступление. Но я должен сказать еще несколько слов на тему «Россия — родина слонов».
Однажды знакомый офицер NASA, учившийся в 1970-е годы, рассказал мне о том, что в школе ему ничего не говорили о Юрии Гагарине. Первым космонавтом — точнее, астронавтом — для этого американца был Алан Шепард. Узнав в институте о первенстве СССР в космосе, он очень удивился.
Аналогичным образом США и Франция уже много лет спорят о том, кого считать первым авиатором — то ли Орвилла Райта, то ли Альберто Сантос-Дюмона, совершившего первый полет тремя годами позже, но зато на полноценном самолете с шасси и возможностью маневрирования в воздухе. За Сантос-Дюмона борется еще и Бразилия, поскольку он имел двойное гражданство и полжизни провел в Европе, полжизни — в Южной Америке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
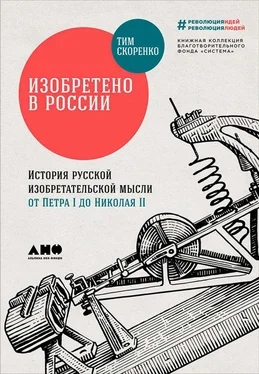
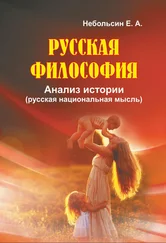
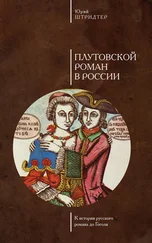

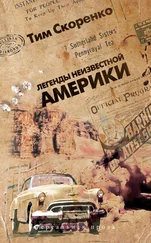
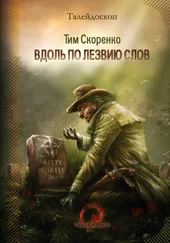
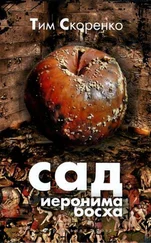

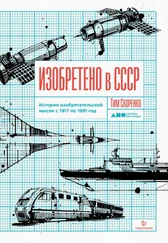
![Борис Райков - Предшественники Дарвина в России [Из истории русского естествознания]](/books/427769/boris-rajkov-predshestvenniki-darvina-v-rossii-iz-thumb.webp)
![Тим Скоренко - Стекло [litres]](/books/431498/tim-skorenko-steklo-litres-thumb.webp)