Центральный мотив котлована у Платонова как бы предвосхищает судьбу проекта Дворца Советов, который предполагалось воздвигнуть — в полном соответствии с пророческим высказыванием Достоевского — на месте разрушенного храма и который, как известно, кончился ямой — плавательным бассейном. В дискуссиях о Дворце Советов после 1931 года звучат те же мысли о создании монументального дома мирового пролетариата, которые мы встречаем в произведении Платонова, законченном годом ранее.
Мотив Вавилонской башни не исчезает и в последующие советские годы, причем сохраняются и его противоположные оценки. В книге о Советском Союзе немецкого писателя Лиона Фейхтвангера (1937) мы читаем о Дворце Советов: «Это настоящая Вавилонская башня, но такая, которая не хочет приблизить людей к небу, а приближает небо к людям. И удалось дело, они не дали смешать себе языки и понимают друг друга» [65] Feuchtwanger L. Moskau 1937. Amsterdam, 1937. S. 153.
. Федор Шаляпин приходит в своих воспоминаниях к иному выводу: «Беда же была в том, что наши российские строители никак не могли унизить себя до того, чтобы задумать обыкновенное человеческое здание по разумному человеческому плану, а непременно желали построить „башню до небес“ — вавилонскую башню» [66] Шаляпин Ф. Маска и лицо. Мои сорок лет на театрах. М., 1989. С. 222.
. Дальше он пишет: «Строительство приняло форму сплошного разрушения, и „любовь к будущему“ человечеству вылилась в ненависть и пытку для современников» [67] Там же. С. 239.
.
На чудовищную безмерность вавилонского проекта как такового указывается и в «Эстетике» Гегеля, который отмечает, что сооружение в своей форме «в состоянии выразить священное, само по себе объединяющее людей начало только внешним образом» [68] Гегель Г. В. Ф. Эстетика. М., 1971. Т. 3. С. 33. — Курсив мой. — Х. Г.
. На самом деле связь монументального Дворца Советов со строящим его народом носила лишь абстрактный, «внешний» характер.
Как во многих утопических мотивах, в образе Вавилонской башни заложена глубоко амбивалентная оценка ее — как символа саморазрушения человечества и как надежды на идеальное будущее. До конца Средних веков Вавилонская башня считалась в изобразительном искусстве символом человеческого высокомерия, и лишь в XVI и XVII веках, благодаря увлечению техническим прогрессом, стала появляться положительная иконография [69] См.: Senarclens de Grancy A. Der Turm von Babel. Ambivalenz eines Symbols in der Kunst der Neuzeit // Utopie. Gesellschaftsformen. Künstlerträume. Hrsg. Von G. Pochat, В. Wagner. Graz, 1996. S. 190. О мотиве Вавилонской башни в русской культуре см.: Guski A. Babylonische Türme. Zu einem Motiv der neueren russischen Kulturgeschichte // Вертоградъ многоцветный. Festschrift für H. Jachnow. Hrsg. von W. Girke u. а. München, 1999. S. 59–70.
. В контексте советской культуры этот мотив был актуализирован в двух нереализованных проектах: в виде авангардного культа техники (башня Татлина) и как воплощение сталинской мании величия (Дворец Советов).
4. Между утопией и памятью: Платонов и Федоров
Федоровская мысль странным образом сочетает культурные механизмы утопического мышления и памяти прошлого, которые в принципе исключают друг друга — ведь утопия определяется как радикальный разрыв с прошлым во имя идеального общества будущего. Не случайно в антиутопических текстах открыто показана тенденция к уничтожению. В романе Замятина «Мы», например, следы прошлого сохранены лишь в одном месте — в Древнем доме у Зеленой Стены, расположенном на самом краю Единого Государства. Хаотические, исковерканные остатки прежних времен уже давно вытеснены прозрачной геометрической эстетикой Единого Государства. Для обозначения подобного общества, утратившего связи с культурой предков, Федоров пользуется, вслед за Достоевским, метафорой муравейника (2, 372) [70] Ссылки на произведения Федорова в тексте с указанием тома и страницы отсылают к изд.: Федоров Н. Собр. соч.: В 4 т. М., 1995–1999.
.
У Федорова утопический проект, обычно сопровождаемый вытеснением прошлого, возникает именно в целях сохранения памяти, что явилось, на наш взгляд, главным стимулом его «Философии общего дела». Потеря памяти приравнивается к смерти: «Что субъективно — память, то объективно — сохранение связи, единение; что субъективно — забвение, то объективно — разрыв, смерть; что субъективно — воспоминание, то объективно — воскрешение» (2, 252). Своим учением Федоров реагирует на «болезнь века», которая «заключается именно в отрешении от прошлого, от общего дела всех поколений» (2, 373). Потеря памяти, по его мнению, вызвана прогрессом, т. е. ускоренным индустриальным развитием XIX века. «Стадное состояние, в котором младшее поколение избивает старшее» (1, 92), делает человека «бродягою, не помнящим родства, как в толпе» (1, 44). Только культ предков может превратить толпу в союз сынов, объединяющихся для воскрешения отцов.
Читать дальше

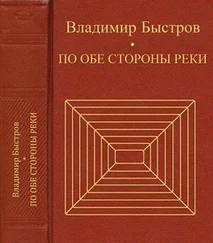
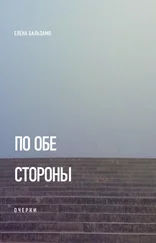

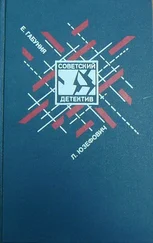




![Ханс-Гюнтер Веес - Я не умею спать [Как самостоятельно выявить и устранить расстройства сна за 21 день] [litres]](/books/393893/hans-thumb.webp)


