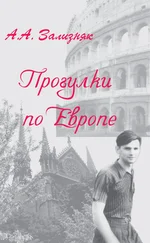«Нет истины, где нет любви», — это правило в устах Пушкина помимо прочего означало, что истинная объективность достигается нашим сердечным и умственным расположением, что, любя, мы переносимся в дорогое существо и, проникшись им, вернее постигаем его природу. Нравственность, не подозревая о том, играет на руку художнику. Но в итоге ему подчас приходится любить негодяев.
Вслед за Пушкиным мы настолько погружаемся в муки Сальери, что готовы, подобно последнему, усомниться в достоинствах Моцарта, и лишь совершаемое на наших глазах беспримерное злодеяние восстанавливает справедливость и заставляет ужаснуться тому, кто только что своей казуистикой едва нас не вовлёк в соучастники. В целях полного равновесия (не слишком беспокоясь за Моцарта, находящегося с ним в родстве) автор с широтою творца даёт фору Сальери и, поставив на первое место, в открытую мирволит убийце и демонстрирует его сердце с симпатией и состраданием.
Драматический поэт — требовал Пушкин — должен быть беспристрастным, как судьба. Но это верно в пределах целого, взятого в скобки, произведения, а пока тянется действие, он пристрастен к каждому шагу и печётся попеременно то об одной, то о другой стороне, так что нам не всегда известно, кого следует предпочесть: под пушкинское поддакиванье мы успели подружиться с обеими враждующими сторонами. Царь и Евгений в «Медном Всаднике», отец и сын в «Скупом Рыцаре», отец и дочь в «Станционном смотрителе», граф и Сильвио в «Выстреле» — и мы путаемся и трудимся, доискиваясь, к кому же благоволит покладистый автор. А он благоволит ко всем.
Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьётся красный делибаш.
А откуда смотрит Пушкин? Сразу с обеих сторон, из ихнего и из нашего лагеря? Или, быть может, сверху, сбоку, откуда-то с третьей точки, равно удалённой от «них» и от «нас»? Во всяком случае он подыгрывает и нашим и вашим с таким аппетитом («Эй, казак! не рвися к бою», «Делибаш! не суйся к лаве»), будто науськивает их поскорее проверить в деле равные силы. Ну и, конечно, удальцы не выдерживают и несутся навстречу друг другу.
Мчатся, сшиблись в общем крике…
Посмотрите! каковы?
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.
Нет, каков автор! Он словно бы для очистки совести фыркает: — я же предупреждал! и наслаждается потехой и весело потирает руки: есть условия для работы.
Как бы в этих обстоятельствах вёл себя Сильвио Пеллико? Должно, молился бы за обоих — не убивайте, а если убили, так за души, обагрённые кровью. Пушкин тоже молится — за то, чтоб одолели оба соперника. Осуществись молитва Пеллико — действительность в её нынешнем образе исчезнет, история остановится, драчуны обнимутся и всему наступит конец. Пушкинская молитва идёт на потребу миру — такому, каков он есть, и состоит в пожелании ему долгих лет, доброго здоровья, боевых успехов и личного счастья. Пусть солдат воюет, царь царствует, женщина любит, монах постится, а Пушкин, пусть Пушкин на все это смотрит, обо всём этом пишет, радея за всех и воодушевляя каждого.
Бог пóмочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!
Бог пóмочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!
Вероятно, никогда столько сочувствия людям не изливалось разом в одном — таком маленьком — стихотворении. Плакать хочется — до того Пушкин хорош. Но давайте на минуту представим в менее иносказательном виде и «мрачные пропасти земли», и «заботы царской службы». В пропастях, как всем понятно, мытарствовали тогда декабристы. Ну а в службу царю входило эти пропасти охранять. Получается, Пушкин желает тем и другим скорейшей удачи. Узнику милость, беглому — лес, царский слуга — лови и казни. Так, что ли?! Да (со вздохом) — так.
«Не мы ли здесь вчера скакали,
Не мы ли яростно топтали,
Усердной местию горя,
Лихих изменников царя?»
Это писалось на другой день после 14 декабря — попутно с ободряющим посланием в Сибирь. Живописуя молодого опричника, Пушкин мимоходом и ему посочувствовал, заодно с его печальными жертвами. Уж очень славный попался опричник — жаль было без рубля отпускать…
«Странное смешение в этом великолепном создании!» — жаловался на Пушкина друг Пущин. Он всегда был слишком широк для своих друзей. Общаясь со всеми, всем угождая, Пушкин каждому казался попеременно родным и чужим. Его переманивали, теребили, учили жить, ловили на слове, записывали в якобинцы, в царедворцы, в масоны, а он, по примеру прекрасных испанок, ухитрялся «с любовью набожность умильно сочетать, из-под мантильи знак условный подавать» и ускользал, как колобок, от дедушки и от бабушки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





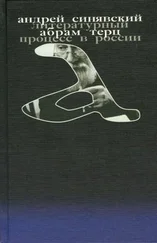
![Андрей Зализняк - Прогулки по Европе [litres]](/books/430207/andrej-zaliznyak-progulki-po-evrope-litres-thumb.webp)