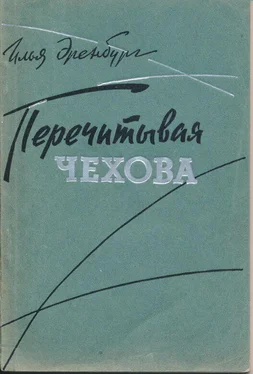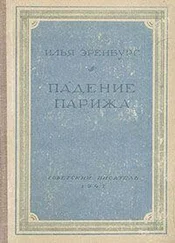В отличие от либералов из «Русской мысли», Антон Павлович ненавидел не только малограмотных исправников, но и просвещенных капиталистов; хотел не только свободы, но и справедливости. 19 февраля 1897 года он записал в дневнике: «Обедал в «Континентале» в память великой реформы. Скучно и нелепо. Обедать, пить шампанское, галдеть, говорить речи на тему о народном самосознании, о народной совести и т. п. в то время, когда кругом стола снуют рабы во фраках, те же крепостные, и на улице, на морозе ждут кучера, — это значит лгать святому духу». В повести «Моя жизнь», написанной в 1896 году, герой повествования говорит: «Рядом с процессом постепенного развития идей гуманных наблюдается и постепенный рост идей иного рода. Крепостного права нет, зато растет капитализм. И в самый разгар освободительных идей, так же как во времена Батыя, большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само голодным, раздетым и беззащитным».
Чехов понимал, что общество, построенное на произволе и несправедливости, нельзя спасти мелкими реформами или благотворительностью. Художник, от имени которого ведется рассказ в «Доме с мезонином», возражает либеральной активистке Лиде: «По–моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья — вот вам мое убеждение… Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных — только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх».
В Чехове жила неприязнь к духовной сытости, к паразитарному существованию, к жадности и бесчеловечности того мира, который он называл «буржуазным». Он писал о романе Сенкевича: «Цель романа: убаюкать буржуазию в ее золотых снах. Будь верен жене, молись с ней по молитвеннику, наживай деньги, люби спорт — и твое дело в шляпе и на том и на этом свете. Буржуазия очень любит так называемые «положительные» типы и романы с благополучными концами, так как они успокаивают ее на мысли, что можно и капитал наживать и невинность соблюдать, быть зверем и в то же время счастливым». Говоря об одном русском беллетристе, Чехов пояснял: «Он фальшив («хорошие книжки»), потому что буржуазные писатели не могут быть не фальшивы. Это усовершенствованные бульварные писатели. Бульварные грешат вместе со своей публикой, а буржуазные лицемерят с ней вместе и льстят ее узенькой добродетели».
В глазах Чехова совесть была высшим ар-, битром; легко поэтому понять страстный интерес, проявленный им к «делу Дрейфуса». В 1894 году во Франции был осужден за шпионаж офицер Альфред Дрейфус. Вскоре началось движение, разделившее Францию: передовые круги утверждали, что Дрейфус невиновен и осужден военными судьями только потому, что он еврей. В защиту Дрейфуса выступил Эмиль Золя. М. Ковалевский рассказывал, что в зиму 1897/98 года, находясь в Ницце, Чехов с утра поспешно прочитывал все газеты: что пишут о деле Дрейфуса? Антона Павловича связывала давняя дружба с Сувориным, и вот из–за дела Дрейфуса дружба оборвалась. Чехов пытался переубедить Суворина: «Замечено было, что во время экзекуции Дрейфус вел себя как порядочный, хорошо дисциплинированный офицер, присутствовавшие же на экзекуции, например, журналисты, кричали ему: «Замолчи, Иуда!», то есть вели себя дурно, непорядочно. Все вернулись с экзекуции неудовлетворенные, со смущенной совестью… Как нарочно, обнаружился целый ряд грубых судебных ошибок… Такие глубоко неуважаемые люди, как Дрюмон, высоко подняли голову; заварилась мало–помалу каша на почве антисемитизма, на почве, от которой пахнет бойней. Когда в нас что–нибудь неладно, то мы ищем причин вне нас и скоро находим: «Это француз гадит, это жиды, это Вильгельм…» Да, Золя не Вольтер, и все мы не Вольтеры, но бывают в жизни такие стечения обстоятельств, когда упрек, что мы не Вольтеры, уместен менее всего. Вспомните Короленко, который защищал мултановских язычников и спас их от каторги». Вскоре после этого письма Антон Павлович сообщил брату: «В деле Золя «Новое время» вело себя просто гнусно. По сему поводу мы со старцем обменялись письмами (впрочем, в тоне весьма умеренном) и замолкли оба. Я не хочу писать и не хочу его писем…» 18 сентября 1902 года Антон Павлович написал своей жене: «Сегодня мне грустно, умер Золя. Это так неожиданно и как будто некстати. Как писателя я мало любил его, но зато как человека в последние годы, когда шумело дело Дрейфуса, я оценил его высоко».
Читать дальше