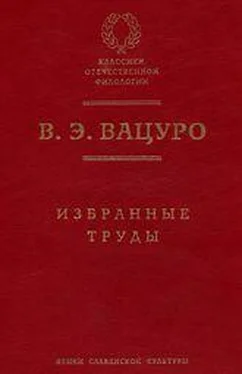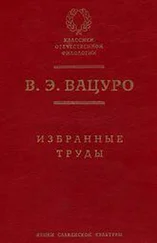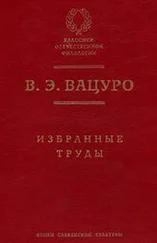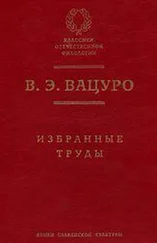Есть все основания поэтому считать, что формулы «Силен русский бог» и далее в концовке: «Велик нас ополчивший в брань! … Он, он один прославил нас!» — имеют непосредственным источником заключительные слова трагедии (ср. в том же последнем монологе у Озерова: «Прославь, и утверди, и возвеличь Россию!»). Равным образом к ней восходят и иные ключевые формулы, сами по себе не индивидуально озеровские, но нашедшие себе место в его монологах: «И сокрушен гордыни рог» (ср.: «Поможет нам сотреть гордыни вашей рог» — действие I, явл. 3); «И окрест их татар громада В своей потопшая крови» («И на земле вкруг них татарских груда тел» — действие V, явл. 5); «Расторгнул русский рабства цепи И стал на вражеских костях» («И русский в поле стал, хваля и славя бога» — действие V, явл. 2). Число примеров можно было бы легко умножить. При разнице метрических характеристик (александрийский шестистопный и четырехстопный ямб) парафразы не могут быть более близкими; впрочем, конечно, Рылеев и не перелагал монологи, а, как и многие его современники, держал в памяти словесные формулы трагедии.
Но как раз «Димитрий Донской» показывает, что в разных эпизодах Рылеев мог ориентироваться на разножанровые образцы. Картина битвы у него близка к аналогичным сценам «Руслана и Людмилы»; если это и не прямое заимствование, то ориентация на самый тип описания. Ср.:
Повсюду хлещет кровь ручьями,
Зеленый побагровел дол:
Там русский поражен врагами,
Здесь пал растоптанный могол,
Тут слышен копий треск и звуки,
Там сокрушился меч о меч.
Летят отсеченные руки,
И головы катятся с плеч.
У Пушкина:
Равнина кровью залилась…
Там русский пал, там печенег;
Там клики битвы, там побег…
Тот легкой поражен стрелою;
Другой, придавленный щитом,
Растоптан бешеным конем…
Везде главы слетают с плеч…
Трагедия Озерова и пушкинская поэма, по-видимому, должны учитываться в числе наиболее вероятных источников этой думы.
5. Источник «Ивана Сусанина»
В той же XVIII части «Русского вестника» за 1812 год, где напечатана «Речь Димитрия Донского…», находится рассказ об Иване Сусанине, послуживший, по-видимому, непосредственным источником этой думы. Он не попал в поле зрения комментаторов, так как был включен в более обширное целое — «Опыт о народном нравоучении», принадлежавший, несомненно, самому издателю — С. Н. Глинке. «Опыт» был предварен изображением Сусанина, с девизом: «Умрем все за веру и царя-государя. Слова крест.<���янина> Сусанина. Опыт о нар.<���одном> нрав.<���оучении>. Ст.<���атья> 7» (ср. у Рылеева парафразу этих «слов»: «Не дрогнув, умру за царя и за Русь!»). Эта статья седьмая и была занята «нравственным и историческим повествованием» о подвиге Сусанина [20] Глинка С. Н. Опыт о народном нравоучении, часть первая, статья седьмая. Крестьянин Иван Сусанин, победитель лести и избавитель царя Михаила Федоровича Романова. Нравственное и историческое повествование // «Русский вестник», 1812, № 5, стр. 72–94.
, гораздо более подробным, нежели в позднейшей «Истории» Глинки, где был дан лишь сокращенный ее пересказ (с текстуальными заимствованиями). Отсюда Рылеев взял почти все эпизоды думы: как и в рассказе Глинки, Сусанин приводит поляков на ночлег в деревню, где угощает вином, сам же проводит ночь в бодрствовании и молитве. Очень точно воспроизведена следующая сцена: сын Сусанина, посланный матерью, находит отца и умоляет вернуться. «Сам бог меня сюда привел!» — говорит он у Глинки. Эти слова вложены Рылеевым в уста Сусанина: «Приводит сам бог тебя к этому дому». Последующий разговор Сусанина с сыном, поручение предупредить царя о необходимости бежать, патриотическая речь Сусанина — аналогичны в «повествовании» и в думе. Сходными оказываются и частные детали (ср. у Глинки: «Вьюга вовсе укротилась»; у Рылеева — «Свист ветра умолкнул, утихнула вьюга»). Все это не оставляет сомнений в том, что Рылеев переработал именно данный рассказ Глинки, который под его пером претерпел существенные изменения как в идейном, так и в стилистическом отношении. Дальнейшее исследование должно прояснить характер соотношения думы и ее источника; оно неизбежно затронет вопросы творческой истории и даст дополнительный материал для изучения жанровой природы дум.
* * *
На этом мы хотели бы закончить наши заметки о некоторых частных вопросах, возникающих в связи с изучением и изданием рылеевских дум. Не претендуя ни на бесспорность суждений, ни на окончательность выводов, они могут оказаться небесполезными при дальнейших переизданиях рылеевских текстов, — и в этом случае задача их будет выполнена.
Читать дальше