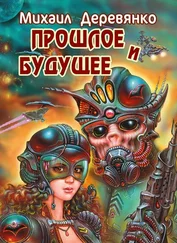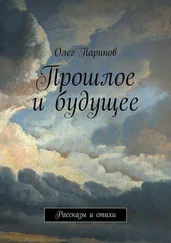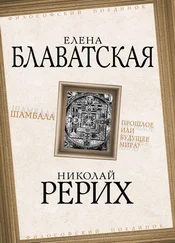Между тем долгосрочное влияние погоды и климата на человеческую цивилизацию является предметом изучения новой междисциплинарной науки — исторической климатологии, которая объединяет историю, экономику, социологию, антропологию, статистику и собственно климатологию. Если посмотреть на последние два тысячелетия человеческой цивилизации, бросается в глаза ярко выраженная закономерность: периоды социальной нестабильности и конфликтов всегда, причем с высоким уровнем статистической достоверности, совпадали с периодами отклонения климатических условий от нормы даже в незначительных пределах [93] Zhang, D., et al., 2011. The causality analysis of climate change and large-scale human crisis. Proceedings of the National Academy of Sciences , 108, 17296–17301. doi:10.1073/pnas.1104268108
. Так, в раннем Средневековье в Европе снижение средних температур всего на один градус ниже нормы привело к неурожаям и спровоцировало массовые миграции и межплеменные столкновения в период с 400 по 700 г. н. э. Затяжная засуха, связанная с изменением погодоформирующих факторов в Тихом океане около 900 г н. э., стала причиной краха цивилизации майя в Центральной Америке и империи Тан в Китае. Ангкорское королевство в Юго-Восточной Азии, процветавшее на протяжении 500 лет, рухнуло после двух десятилетий засухи в начале XV в. Еще один период похолодания в Европе совпал с Тридцатилетней войной, длившейся с 1618 по 1648 г., которая, если учитывать долю погибших от всего населения, была даже кровопролитнее, чем Первая мировая война. Хотя формально война была вызвана религиозными и политическими причинами, спровоцированный климатическими изменениями голод усиливал враждебность и усугублял страдания людей.
Можно подумать, что современное общество стало менее уязвимым для обычных погодных аномалий. Но анализ полицейских данных за последние полвека показал, что при каждом увеличении стандартного отклонения средней температуры в крупных городах мира уровень насильственной преступности подскакивал на 4 %. Аналогичное статистическое исследование показало, что за последние десятилетия климатические стрессы, такие как нехватка воды, провоцировали увеличение локальных и региональных межгрупповых конфликтов по всему миру по крайней мере на 14 % [94] Hsiang, S., Burke, M., and Michel, E., 2013. Quantifying the influence of climate on human conflict. Science , 341, 1212–1228. doi:10.1126/science.1235367
. Парадоксально, но современный уровень развития во многих отношениях делает нас менее гибкими перед лицом климатических перемен, чем предыдущие общества. Мы выстроили огромные города на побережьях и в пустынях в расчете на то, что уровень моря будет оставаться постоянным, а дожди и снега будут своевременно пополнять запасы пресной воды. Вся наша система производства продуктов питания построена на предположении о том, что привычные нам погодные циклы будут повторяться снова и снова.
Между тем погода все больше «сходит с ума». С начала этого тысячелетия мы уже пережили десять самых жарких лет за всю историю метеонаблюдений. «Самое сильное за 100 лет» и «самое сильное за 500 лет» наводнения происходят раз в десятилетие. Правила климатической игры в антропоцене изменились настолько, что геологам все труднее полагаться на количественные модели, разработанные учеными для исследования поведения геологических систем. Эти модели основаны на концепции стационарности, которая гласит, что естественные системы изменяются в пределах строго определенного диапазона с неизменными верхней и нижней границами. В прошлом это предположение позволяло делать обоснованные прогнозы, однако недавно международная группа ведущих гидрологов опубликовала отрезвляющий доклад, в котором констатировала, что «концепция стационарности мертва и больше не может использоваться как центральное, принятое по умолчанию предположение при оценке и планировании рисков водных ресурсов» [95] Milly, P., et al., 2008. Stationarity is dead: Whither water management? Science , 319, 573–574. doi:10.1126/science.1151915
. Другими словами, основной прогноз в отношении погоды и водного цикла состоит в том, что они становятся все более и более непредсказуемыми.
Тем не менее люди продолжают упрямо верить в униформизм. Отчасти этот оптимизм понятен, поскольку коренится в том геологическом факте, что климат в эпоху голоцена, когда возникла человеческая цивилизация с ее сельским хозяйством, письменностью, наукой, искусством, технологиями и государствами, действительно был на редкость стабильным. На самом деле именно стабильность, вероятно, была главным фактором, позволившим людям построить свою цивилизацию. И наоборот, значительные по амплитуде климатические колебания в плейстоцене ограничивали развитие зарождающегося человеческого общества. «Ледниковая эпоха» не была постоянно ледяной; вместо этого в течение 2,5 млн лет климат демонстрировал сумасшедшие флуктуации, сочетающие колебания различных периодов, как образно выразился гляциолог Ричард Элли, «словно мотающиеся вверх-вниз диски игрушки йо-йо в руках человека, который раскачивается на тарзанке, привязанной к тележке американских горок» [96] Alley, R., 2000. The Two-Mile Time Machine: Ice Cores, Abrupt Climate Change, and our Future . Princeton, NJ: Princeton University Press, p. 126.
. Очень важно понять, что именно происходило в плейстоцене, для того чтобы посмотреть на текущие темпы климатических изменений в перспективе и постараться спрогнозировать будущее. История изучения ледниковой эпохи вновь возвращает нас к Лайелю, а также выводит на сцену новых персонажей — швейцарских фермеров, шотландского уборщика и сербского математика.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
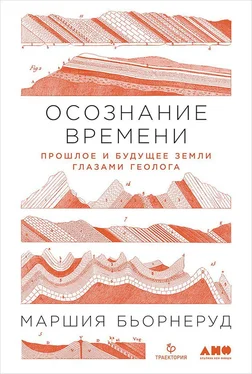

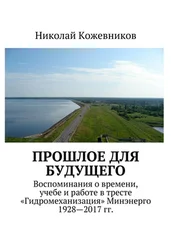
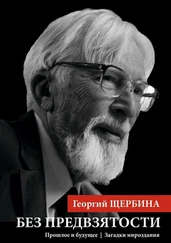
![Алан Джасанов - Мозг - прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]](/books/401119/alan-dzhasanov-mozg-proshloe-i-buduchee-chto-delaet-thumb.webp)