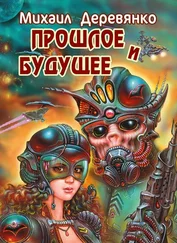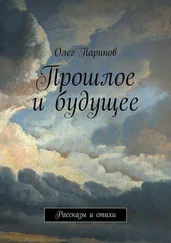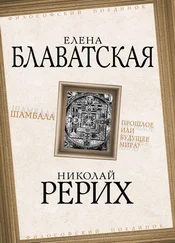При массовом вымирании скальпель естественного отбора, обычно кропотливый, аккуратно отсекающий одних особей и сохраняющий других на основе мельчайших различий, таких как оттенки в окраске крыльев у бабочек или небольшие отличия в форме клюва у вьюрков, превращается в эволюционное подобие мачете, которое стремительно и без разбора уничтожает целые таксономические группы — не просто отдельные особи или виды, но целые рода, семейства и отряды — почти на всем пространстве их обитания. Причины массового вымирания, как правило, отличаются от факторов, стоящих за рутинным прореживанием в результате естественного отбора, — аналогично тому, как естественная смертность людей из-за несчастных случаев или заболеваний имеет мало общего с массовой гибелью в ходе войн и эпидемий. Палеонтологи оценивают тяжесть этих событий по такому количественному показателю, как величина отклонения от фоновой скорости исчезновения для разных групп. Например, фоновая скорость вымирания амфибий в кайнозое составляет менее 0,01 вида в год, или примерно одна лягушка или саламандра в столетие [80] McCallum, M., 2007. Amphibian decline or extinction? Current declines dwarf background extinction rate. Journal of Herpetology , 41, 483–491. doi:10.1670/0022–1511
. Массовые вымирания подразумевают, что между обычно соразмерными темпами эволюции и изменениями окружающей среды, идущими друг с другом в ногу так же, как тектоника и эрозия, происходит резкая рассинхронизация. Если постепенные геологические изменения, такие как формирование горных поясов, разделение континентов и т. п., вдохновляют биосферу на инновации, то резкие, масштабные перемены могут стать разрушающим фактором. Когда изменения окружающей среды по каким-либо причинам ускоряются настолько, что биосфера не в силах за ними угнаться, начинается массовое вымирание.
Интересно вспомнить гипотезы о причинах мел-палеогенового вымирания из учебников по исторической геологии, по которым мы учились в университете в начале 1980-х гг. — незадолго до того, как гипотеза Альвареса об астероидном воздействии была принята геологическим сообществом. К тому времени прежнее представление о динозаврах как о тупых и медлительных созданиях, косвенно подразумевавшее, что их вымирание было фактически «предопределено», доказало свою несостоятельность и сменилось пониманием того, что это были проворные теплокровные животные, в некоторых случаях социальные и довольно умные. Уничтожить таких животных не так-то просто, поэтому стало очевидно, что ни один из предполагаемых факторов их кончины — глобальное похолодание, смертельная эпидемия, геноцид со стороны млекопитающих-яйцеедов, аллергия на первые цветковые растения (!) — не мог оказать достаточно мощного и стремительного воздействия, чтобы привести к такому исходу. Единственная упоминавшаяся тогда внеземная гипотеза гласила, что динозавры погибли от космической радиации, выброшенной при вспышке далекой сверхновой звезды и достигшей Земли как раз в тот момент, когда происходила инверсия геомагнитного поля и планета была почти не защищена от космического излучения (т. е. они в буквальном смысле слова умерли под несчастливой звездой).
Вспоминая эти гипотезы, невольно испытываешь ностальгию по добрым и уютным временам, когда над миром не маячил призрак апокалипсиса. Дело в том, что теории о массовых вымираниях всегда появляются параллельно с другими источниками экзистенциальной тревоги в обществе: геологическое прошлое часто служит своего рода экраном, на который мы проецируем наши самые глубокие страхи. Это вовсе не говорит о ненаучности гипотез о массовых вымираниях, однако ужас перед новыми видами апокалипсиса невольно разжигает наше воображение в отношении возможных сценариев катаклизмов прошлого. Геологи — это обычные люди, живущие в конкретном обществе в конкретный исторический момент, и они не могут не находиться под влиянием доминирующего духа времени. По сравнению с XX в. и началом XXI в. с их паническими страхами, Викторианская эпоха была полна оптимистичных надежд на то, что научно-технический прогресс значительно улучшит жизнь большей части человечества. Таким образом, помимо лайелевского табу на геологический катастрофизм (особенно старомодного библейского типа), возможно, тот факт, что викторианцы попросту не были одержимы видением конца времен, объясняет тогдашнее отсутствие в научном мире моды на Армагеддон.
Но к 1980 г. устрашающие технологические достижения, которых не могли предвидеть люди Викторианской эпохи, поставили под угрозу существование человеческой цивилизации, и именно в этот тревожный момент в конце холодной войны отец и сын Альваресы выдвинули гипотезу астероидного воздействия. Описание того, как падение на Землю массивного метеорита окутало планету саваном из выброшенных в стратосферу пыли и сажи, который преградил солнечному излучению путь на ее поверхность и заблокировал фотосинтез, вызвав массовый голод, было словно прямиком взято из сценариев «ядерной зимы», предсказанных в 1970-х гг. Карлом Саганом и голландским ученым, специалистом в области химии атмосферы, Паулем Крутценом. Катастрофическое извержение вулкана Сент-Хеленс в том же году наглядно проиллюстрировало пепельное светопреставление в локальном масштабе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
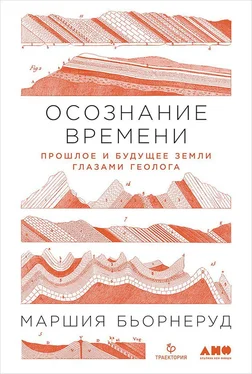

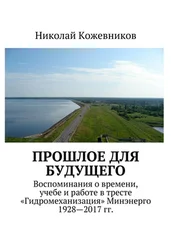
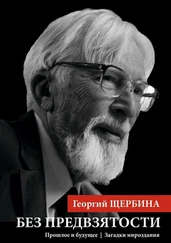
![Алан Джасанов - Мозг - прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]](/books/401119/alan-dzhasanov-mozg-proshloe-i-buduchee-chto-delaet-thumb.webp)