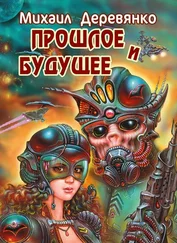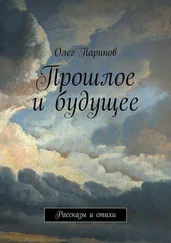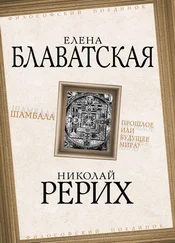Прежде всего, твердая оболочка молодой Земли была намного горячее (лорд Кельвин отчасти был прав), что делало невозможной субдукцию океанической коры в ее современном виде. К тому же, при том что архейские породы несут в себе следы столкновений и смятия поверх конвектирующей мантии, структурные особенности их деформации отличаются от тех, что характерны для современных деформированных пород на четко определенных стыках твердых плит. Более горячие и подвижные коровые плиты могли нагромождаться друг на друга и подвергаться частичному плавлению с извлечением компонентов, из которых затем происходило образование гранитной континентальной коры, в то время как нижний слой остаточной плотной породы в виде огромных капель погружался обратно в мантию, как это предполагается в модели дрип-тектоники (от англ. drip — «капля» ) [72] Johnson, T., et al., 2014. Delamination and recycling of Archean crust caused by gravity instabilities. Nature Geoscience , 7, 47–52. doi:10.1038/ngeo2019
. Но уже в толщах пород конца архейского эона мы можем распознать элементы современной архитектуры земной коры: континентальные шельфы, зоны субдукции, вулканические дуги и полноценные горные пояса, а это означает, что к тому времени Земля достаточно остыла для того, чтобы сформировать хрупкую внешнюю оболочку. Таким образом, переход от старой тектонической системы к новой вполне мог стать тем самым фактором, благодаря которому потребление кислорода начало отставать от его производства. На самом деле кажется вполне логичным, что тектоническое совершеннолетие Земли по времени совпадает с фундаментальным изменением химического состава ее поверхностной среды.
Хотя Великое кислородное событие привело к кардинальному разрушению устоявшегося геохимического порядка, с точки зрения фактического масштаба оно было не таким уж великим, как предполагает его название. Некоторые металлические элементы-примеси в полосчатых железистых формациях, такие как хром, имеют стабильные изотопы, очень чувствительные к уровню кислорода — как своего рода докембрийские канарейки {9} 9 Для обнаружения в шахтах рудничного газа в качестве газоанализаторов в Британии перед Первой мировой войной начали использовать канареек. Эти птицы очень чувствительны к газам, в том числе метану и угарному газу, и гибнут даже от незначительной примеси их в воздухе. Сейчас птичек в шахты уже не берут, но детекторы угарного газа в шахтах до сих пор называют «канарейками». — Прим. ред .
в неких вневременных угольных шахтах. Так вот, соотношения этих изотопов предполагают, что в раннем протерозое концентрация кислорода в атмосфере составляла лишь небольшую долю — менее 0,1 % — от современного уровня (сейчас на кислород приходится 21 % объема атмосферы) [73] Lyons, T., Reinhard, C., and Planavsky, N., 2014. The rise of oxygen in Earth'searly ocean and atmosphere. Nature , 307, 506–511. doi:10.1038/nature13068
. Нам, существам, живущим в фанерозое, этот мир вряд ли показался бы гостеприимным. Однако с точки зрения химических возможностей переломной является разница между отсутствием свободного кислорода и его присутствием даже в малом количестве, а не разница между «немного» и «немного больше».
После потрясений Кислородной катастрофы атмосфера Земли, судя по имеющимся у нас данным, вступила в длительный период геохимической стабильности. Хотя основной этап осаждения железистой формации закончился около 1,8 млрд лет назад, уровень кислорода оставался примерно постоянным, намного ниже нынешнего уровня, на протяжении еще миллиарда лет [74] Planavsky, N., et al., 2014. Low mid-Proterozoic atmospheric oxygen levels and the delayed rise of animals. Science , 346, 635–638. doi:10.1126/science.1258410
. Такое устойчивое равновесие (представьте себе национальную экономику, которая на протяжении столетий не испытывает инфляции, рецессий и рыночных потрясений) указывает на удивительный баланс между производством кислорода трудолюбивыми одноклеточными фотосинтетиками и его потреблением ненасытными металлами, сернистыми вулканическими газами и разлагающейся органической материей. По мнению ученых, такая стабильность может объясняться только жесткими ограничительными условиями, например острой нехваткой фосфора — важнейшего питательного вещества для всех форм жизни.
В то время как верхние слои океана постепенно насыщались кислородом, есть свидетельства того, что более глубокие слои оставались в переходном состоянии раннего протерозоя. В таких стратифицированных условиях железосодержащие минералы продолжали забирать из глубоководных слоев драгоценный фосфор, сохраняя его на своей поверхности, — подобно жуликам, которые контрабандой вывозят из бедной страны ценную валюту в подкладке пальто. Это, в свою очередь, вызывало хронический недостаток фосфора в верхних слоях, что сдерживало биологическую продуктивность, ограничивало захоронение органического углерода и в результате препятствовало увеличению концентрации кислорода в атмосфере [75] Reinhard, C., et al., 2016. Evolution of the global phosphorus cycle. Nature . doi:10.1038/nature20772
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
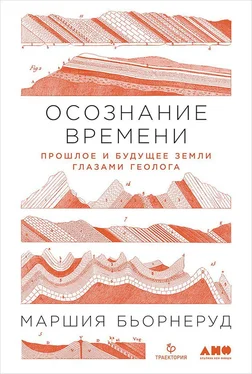

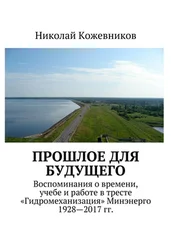
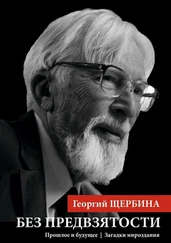
![Алан Джасанов - Мозг - прошлое и будущее [Что делает нас теми, кто мы есть]](/books/401119/alan-dzhasanov-mozg-proshloe-i-buduchee-chto-delaet-thumb.webp)