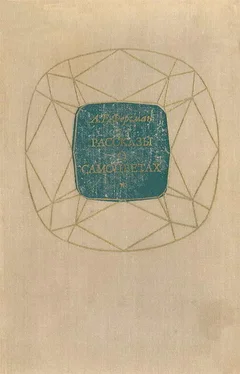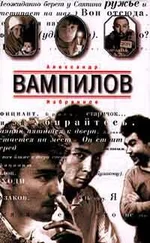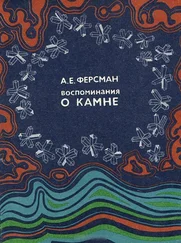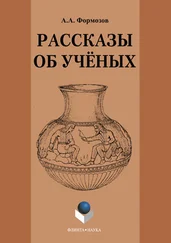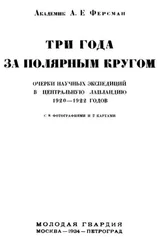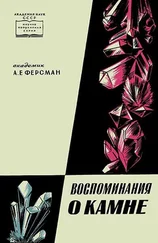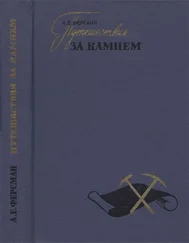Но особенно интересным было применение карпатского белого и зеленого каменного строительного материала, который добывался, по словам историков, из земли Холмской и Югорской в Галицкой области. Эти прекрасные облицовочные материалы, которые были похожи на настоящий мрамор, играли большую роль в каменном строительстве.
Значительно позднее, в Московский период (XIV в.), создалась культура белого известняка — мячковского и протопоповского камня, из которого построена «Белокаменная Москва» (постройка каменного Кремля в Москве).
Возникли первые каменоломни, техника резьбы из мягкого камня достигла значительного совершенства, началась орнаментовка и резьба преимущественно в мастерских Москвы, Ярославля и Владимира. Здесь в Московской Руси создавались кадры камнерезов, «камнесечцев».
Наряду с обработкой декоративного камня также очень медленно создавалось и ювелирное дело.
Использование самоцвета в виде отдельных украшений известно еще в скифо-сарматский период, но нет никакого сомнения, что огромный толчок этому дала Византия и Восток. Финифть и хрусталь, мозаика из пасты, бисер из стекла — все это, называвшееся на старинном языке «узорочьем» и позднее «узорчатыми каменьями», в основном привозилось из заморских стран. Очень немногие минералы русского происхождения нам известны в изделиях X–XVI вв.
Это были в основном янтарь с Днепра, пирофиллит Волыни, светлый аметист Кандалакшского залива, добывавшийся одновременно со слюдой для оконниц; большую роль начинал играть речной жемчуг, который смешивался на путях Новгородской земли с жемчугом Индийского моря. Изредка из Закавказья проникали обсидиан, гагат, мраморный оникс и камень Востока — бирюза, как раз те излюбленные каменные материалы, которые сделались известными в поэмах грузинского эпоса (XII в.).
Но настоящего русского самоцвета и цветного камня для изделий ювелирного дела в России пока еще не было.
И тем не менее росло увлечение яркими камнями, выражавшееся в широком использовании их в изделиях и убранствах церквей.
Намечались и первые зачатки научного подхода к камню.
Первые указания и первые русские минералогические данные мы находим в «Изборнике Святослава» (1073 г.). Этот «Изборник» с многочисленными исправлениями и добавлениями и азбучники XVI–XVII вв. дали нам ряд ценных данных, и хотя новые издания осложнили хронологию и географию изборников, тем не менее здесь наметились первые зачатки более или менее точного минералогического знания.
Интересно и то, что в изборниках и, в частности, в известной «Торговой книге» XVI в. встречаются и описания свойств камня: так, наряду с ценой указывались цвет и твердость, отмечались медицинские свойства, обычно связанные с суеверием, упоминались месторождения, правда преимущественно Востока, а под влиянием арабов стал указываться и удельный вес — одно из важнейших свойств камня, которым наравне с твердостью пользовались торговцы для проверки и определения камня.
Одновременно с этим вырабатывалась и минералогическая номенклатура. Таковы первые названия камней: вениса, изумруд, заберзат, лал, бечеты, баус, вереники, бакан, дростокапами. Многие из них попросту переводились с других языков, но часть их имела и славянские корни.
К сожалению, очень скоро в нашей науке эти названия были забыты, в XVII в. почти все названия были заменены новыми латинскими терминами, и только немногие сохранились до нашего времени.
Я кончаю главу о камне X–XVI вв.
Вывод один — исключительное влечение русского человека к яркому самоцвету и вместе с тем почти полное отсутствие настоящих месторождений его на Руси, полное отсутствие его культуры.
Только в XVII в., в эпоху Петра, наметился решительный перелом, и замечательные открытия совершенно изменили наши представления о русском камне.
Роль Урала и Мурзинки
XVII век явился переломным не только в культуре камня и металлов на Руси; вместе с тем он был переломом между старым бытом и миром промышленного и культурного прогресса.
Уже в 1597 г. Артемий Бабинов «по указанию Москвы» открыл прямой путь из Соликамска на Туру и далее на Тюмень. Таким образом наметился новый путь между Европой и Азией. Из Сибири северным трактом потянулись караваны с товарами: соболями, мамонтовой костью и китайским ладаном; приходила слюда из Мамской тайги, которая наряду со слюдой Белого моря заменяла стекло, привозившееся на ганзейских кораблях, — это был мусковит, всем известный минерал, получивший свое название по имени «Московии».
Читать дальше